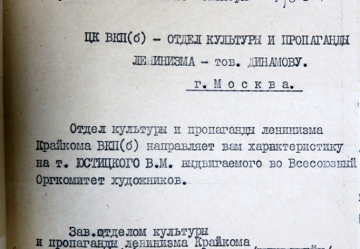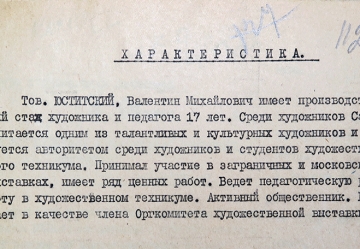Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
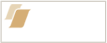
Валентин Михайлович Юстицкий

Биография
Юстицкий Валентин Михайлович
07(20).04.1892, Санкт-Петербург – 26.03.1951, Ростов-на-Дону
Учился в частной студии Я.С. Гольдблата в Петербурге; в Вильно в школе живописи и рисования у академика И.П. Трутнева; в частной академии Бланшара в Париже (1913–1914).
Жил и работал в Москве (1915–1917); работал в Совете Костромского художественного общества (1917). В 1918 по направлению А.В. Луначарского приехал в Саратов. Преподавал в студии живописи и рисунка при Саратовском Пролеткульте (1918–1920); в Художественно-практическом институте (1920–1935, с 1921 – профессор живописи).
Один из организаторов ОХНИС (1920), театра «Арена Поэхма» (1921), «шумового оркестра футуристов» (1921). Оформлял спектакли саратовских театров: Лубка и Сатиры, Театра Эксцентрических представлений (ТЭП), драматического театра им. К. Маркса; академической студии МХАТ (1921–1923, Москва).
В 1936 переехал в Москву. Сотрудничал в издательстве «Academia», автор иллюстраций к роману Э. Золя «Деньги».
Репрессирован в 1937, приговорён к 10 годам лишения свободы, отбывал наказание в лагерях Карелии и Архангельской области. Освобождён в 1946. Жил в Саратове (1946–1951). Руководил студией художников-любителей при заводе «Комбайн».
Участник выставок (с 1916): МТХ (1916); салон «Единорог» (1916, Москва); «Магазин» (1916, Москва); «Северное общество художников» (1917, Кострома); групповых: 1919, 1920, 1922–1924, 1947 (Саратов), 1936 (Москва); «Презантисты» (1920, Саратов); выставка живописи и конструкций (1921, Саратов); АХРР (1925, Москва); «4 искусства»: 1926, 1929 (Москва), 1928 (Ленинград); группа «13» (1929, Москва); городских: 1923, 1948 (Саратов); зарубежных: 1929 (Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Детройт), 1930 (Лондон, Кембридж, Оксфорд), 1931 (Йоханнесбург).
Персональные выставки: 1923, 1984, 1992, 2003 (Саратов).
Дело
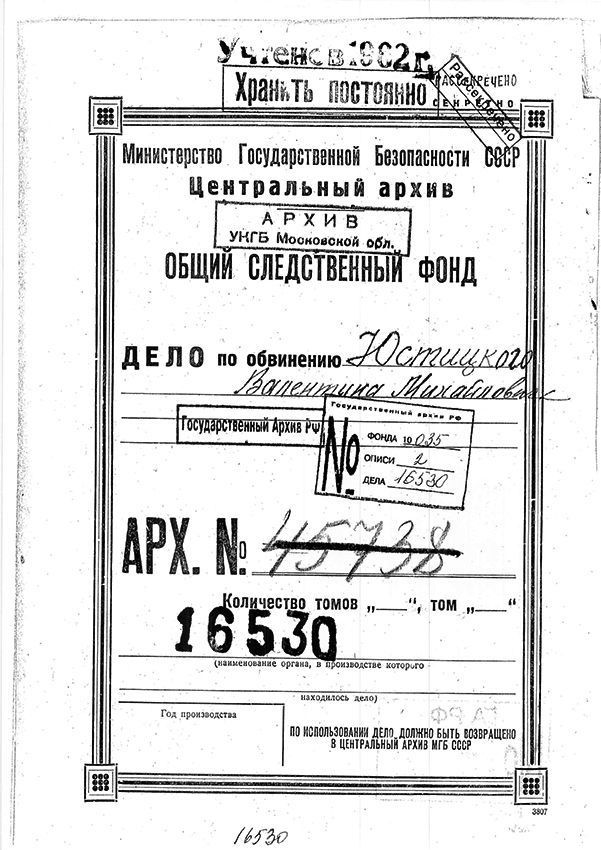
Л.д. 8.
Показание обвиняемого (свидетеля)
Юстицкого Валентина Михайловича 7 мая 1937 г.
Вопрос: Следствие располагает уличающими данными в отношении Вас о том, что вы находясь в общественном месте, вели контрреволюционную троцкистскую агитацию. Дайте показания по существу?
Ответ: Будучи находясь в общественном месте, я никакой контрреволюционной троцкистской агитации не вел.
Вопрос: Вы, показываете неправду. Следствие настаивает на даче правдивых показаний?
Ответ: Вторично показываю, что, я, контрреволюционных взглядов не высказывал.
Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания свидетеля. Признаете ли Вы это?
Ответ: С показаниями свидетеля я, не согласен.
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан в чем и расписуюсь. Юстицкий
Допросил Опер. Уполномоч. <Трофимов?>
Л.д. 10.
Показание обвиняемого (свидетеля)
Юстицкого Валентина Михайловича 22 мая 1937 г.
Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в предъявленном обвинении?
Ответ: В предъявленном мне в обвинении виновным себя не признаю.
Вопрос: Вы показываете неправду т-к все это подтвержено свидетельскими показаниями. Дайте показания по существу?
Ответ: Я, не имею права отказываться от правельности показаний свидетелей, но будучи находясь в общественном месте, был в нетрезвом состоянии.
Вопрос: Какую Вы цель приследовали вашего приезда из г. Каширы в гор. Москву?
Ответ: Цель приезда в гор. Москву, получить деньги за работу с Государственного литературного музея – и с издательства Академии. Другой никакой цели не было.
Протокол с моих слов записан правильно, мною прочитан в чем и расписуюсь. Юстицкий
Допросил Оперуполномоченный <Трофимов?>
Л.д. 13.
Показание обвиняемого (свидетеля)
Юстицкого Валентина Михайловича.
«___»___________193__г.
Вопрос: Вы признаете себя виновным в том, что находясь в общественном месте Вы вели контрреволюционные разговоры?
Ответ: Нет не признаю, так как находясь в общественном месте я к/р. разговоров не вел.
Вопрос: Вы говорите неправду. Свидетельскими показаниями установлено, что Вы находясь в общественном месте вели к/р. разговоры?
Ответ: Я никогда и ни где не вел к/р. разговоров.
Вопрос: Вы вели клеветнические разговоры о якобы тяжелом положении рабочих и колхозников в Советском Союзе?
Ответ: Никаких клеветнических разговоров о якобы тяжелом положении рабочих и колхозников в Советском Союзе я не вел.
Вопрос: В своих разговорах по политическим вопросам, Вы что-нибудь говорили о Троцком?
Ответ: Фигура Троцкого меня вообще не интересовала и разговора о нем я никогда не вел.
Вопрос: Вы говорите неправду. Известно, что в своих разговорах Вы восхваляли врага народа Троцкого?
Ответ: Я никогда не восхвалял врага народа Троцкого.
Вопрос: Вы вели клеветнические разговоры о наших руководителях ВКП/б/?
Ответ: Никаких клеветнических разговоров о наших руководителях ВКП/б/ я никогда не вел.
Вопрос: Вы высказывали террористические настроения против руководителей ВКП/б/?
Ответ: Никаких террористических настроений против руководителей ВКП/б/ я никогда не высказывал.
Показания записаны с моих слов правильно и мной прочитаны. Юстицкий
Допросил оперуполном. Советского р/о Чулков
Л.д. 21-22.
«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАМ НАЧ УПРАВЛЕНИЯ НКВД МО
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУД БЕЗОПАСНОСТИ
/РАДЗИВИЛОВСКИЙ/
14 VI 1937 г. подпись
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По следственному делу № 4070 по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58 п. 10 ч. I УК РСФСР
1937 г. Июня 7 дня. Я, Оперуполномоченный Советского Р/О УГБ УНКВД МО – Сержант Госуд Безопасности ЧУЛКОВ, рассмотрев следственное дело за № 4070 по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58 ч. I п. 10 УК РСФСР
НАШЕЛ:
В Советское Р/О УГБ УНКВД МО поступили сведения о том, что ЮСТИЦКИЙ В.М. находясь в общественном месте среди окружающих вел к/р троцкистскую агитацию, высказывая при этом настроения террористического характера.
Произведенным по делу следствием УСТАНОВЛЕНО:
что ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович, действительно находясь в общественном месте среди окружающих вел открытую к/р троцкистскую агитацию направленную против проводимых мероприятий ВКП/б/ и Советского Правительства.
Юстицкий в своих к/р высказываниях восхвалял врага народа Троцкого пытаясь при этом дискредитировать руководителей ВКП/б/ и Советского Правительства, высказывая настроение террористического характера против т. Сталина.
Обвиняемый ЮСТИЦКИЙ В.М. будучи допрошен виновным себя не признал, но достаточно изобличается в ведении к/р агитации показаниями свидетелей:
1. АПРАКСИНЫМ Е.К. /л.д. 13-14/
2. ГОЛОВАНОВЫМ В.Н. /л.д. 15-16/
3. ТОМИНЫМ С.К. /л.д. 17-18/
и одной очной ставкой со свидетелем:
1. ГОЛОВАНОВЫМ В.Н. /л.д. 19/
На основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович 1892 г. ур. г. Ленинграда, б/п, русский, гр-н СССР, по профессии художник, постоянного места работы не имеет, образование высшее, не судим, женат, при ней 2-е детей, прожив. г. Кашира, Рыбацкая ул. д. 14 – в том, что находясь в общественном месте среди окружающих вел открытую к/р агитацию, в которой восхвалял врага народа Троцкого, пытаясь при этом дискредитировать руководителей ВКП/б/ и Советского Правительства, высказывая при этом настроение террористического характера, т.е. в преступлении предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. I УК РСФСР
ПОСТАНОВИЛ:
Следственное Дело за № 4070 по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича представить на рассмотрение спецколлегии Мосгорсуда с одновременным перечислением за ним обвиняемого.
Дело предварительно передать на санкцию прокурора г. Москвы.
СПРАВКА: Обвиняемый ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович арестован 23/IV-37 г. и находится в Бутырской тюрьме.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ – СЕРЖАНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: подпись /ЧУЛКОВ/
«СОГЛАСЕН» НАЧ СОВЕТСКОГО Р/О УГБ УНКВД МО
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД БЕЗОПАСНОСТИ: подпись /КОЗИН/
НАЧ 4-ГО ОТДЕЛА УГБ УНКВД МО
МАЙОР ГОСУД БЕЗОПАСНОСТИ: подпись /ЯКУБОВИЧ/
Л.д. 26.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1937 года июля 21 дня, Московский городской суд по спец. коллегии, в составе председательствующего тов. Иванова Т.А. и членов коллегии <Санникова?> и Прохорова при участии прокурора т. Куница, при секретаре Забелиной, в подготовительном заседании, рассмотрев дело по обвинению Юстицкого Валентина Михайловича по ст. 5810 ч. I УК
находя, что предварительным следствием по делу собрано достаточно улик для предания суду Юстицкого В.М. по ст. 5810 ч. I УК
определил: согласиться с обвинительным заключением о предании суду Юстицкого В.М. по ст. 5810 ч. I УК. Дело принять к своему производству и назначить к слушанию на 9/VII-37 г. <нрзб> 30 м. под председательством т. Иванова Т.А. без участия сторон при закрытых дверях.
В судебное заседание вызвать свидетелей согласно списка л.д. 23
Подсудимого содержать под стражей.
Председатель подпись
Члены коллегии подпись подпись
Л.д. 35.
Дело №СПК-1012/37 г. копия.
ПРИГОВОР
Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. –
1937 года 9-го августа, Специальная коллегия Московского городского суда в составе председательствующего – т. Н.Г. ВИНОГРАДОВА, членов коллегии – т.т. А.К. Аношечкина и И.В. Кузнецова, при секретаре – Киндякове, рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению –
ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича, 1892 года рождения, высшего образования, окончил в г. Париже академию, беспартийный, ранее не судившийся, семейный, имее на иждивении жену и двух несовершеннолетних детей. Уроженец гор. Ленинграда, последнее время проживал в гор. Кашира – Рыбацкая слобода, д. №4, по профессии художник. До ареста работал как художник по отдельным договорам, по социальному положению – служащий, происходит из семьи дворянина. Обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. I УК.
Предварительным и судебным следствием установлено, что обвиняемый Юстицкий Валентин Михайлович, являясь человеком антисоветски и враждебно-настроенным, 22-го апреля 1937 г., находясь в пивной на улице имени Красина в гор. Москве, в присутствии Толина С.К., Апраксина Е.К., Голованова В.Н. и других окружающих его граждан распространял антисоветские, клеветнические измышления, – о советском правительстве, о руководителях ВКП/б/, о положении колхозного крестьянства, восхвалял врагов народа – руководителей контрреволюционных организаций и высказывал свои антисоветские и враждебные настроения к существующему строю.
Допрошенный в качестве обвиняемого В.М. Юстицкий объяснил свои действия опьяненным состоянием.
Предъявленное обвинение Юстицкому В.М. суд считает доказанным показаниями свидетеля Толина С.К., данными им как на предварительном следствии, так и в судебном заседании и показаниями свидетелей Апраксина Е.К. и Голованова В.Н., данными ими в процессе предварительного следствия.
На основании вышеизложенного специальная коллегия Московского городского суда, руководствуясь ст. 319-320 УПК и ст. 58 п. 10 ч. 1 УК
ПРИГОВОРИЛА:
ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича подвергнуть лишению свободы сроком на ДЕСЯТЬ /10/ лет, с отбыванием в исправтрудлагерях, исчисляя ему срок наказания с 23-го апреля 1937 г.
На основании ст. 31 п. «а» УК – Юстицкого Валентина Михайловича лишить избирательных прав сроком на ПЯТЬ /5/ лет.
Меру пресечения к Юстицкому Валентину Михайловичу избрать содержание под стражей. –
Приговор окончательный, но может быть обжалован в специальную коллегию Верхсуда РСФСР в течение 72-х часов, считая с момента вручения копии приговора осужденному. –
П.п. Председательств: Виноградов
члены – Аношечкин и Кузнецов
верно секретарь: подпись
Л.д. 39.
5 экз СВ I/Х-37 КОПИЯ №37/10935
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СПЕЦ. КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР
в составе: Председательствующего Торской
членов: Пурэ и Зайцева
Рассмотрев в заседании от 19/IX-37 г. в кассационном порядке по жалобе гр. ЮСТИЦКОГО В.М. на приговор СК Мосгорсуда от 9/8-37 г.
по делу ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58-10 чI УК л/св. на десять /10/ лет, с отбыванием в ИТЛ по ст. 31 аА-УК лишить его избират. прав. на пять /5/ лет.
Заслушав члена докладчика т. Торскую, СК Верхсуда ОПРЕДЕЛЯЕТ:
приговор суда оставить в силе, а к/жалобу без последствий.
Председатель – Торская Члены – Пурэ и Зайцев
Верно – Секретарь подпись
Л.д. 42.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1939 года декабря 2 дня. Пом. Прокурора гор. Москвы ОБРАЗЦОВ, рассмотрев по жалобе в порядке надзора дело по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК,
нашел:
ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович, 1893 года рождения, из дворян, с высшим образованием, не судим, состоял в ВКП/б/ в 1917-18 г. выбыл механически, осужден приговором Спецколлегии Мосгорсуда от 9 августа 1937 г. по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК к 10 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на 5 лет.
Материалами дела установлено, что ЮСТИЦКИЙ будучи враждебно настроенным к советской власти 22-го апреля 1937 г. находясь в пивной на ул. Красина среди окружающих его граждан, распространял антисоветские, клеветнические измышления в отношении колхозного крестьянства, восхвалял врагов народа и всячески поносил существующий строй в СССР.Просьба в жалобе ЮСТИЦКОГО об опротестовании приговора, как якобы неправильного на том основании, что он был в сильной степени опьянения и был в бредовом состоянии – неосновательна и не может быть удовлетворена по примечанию к ст. 11 УК.
Учитывая, что к/р деятельность осужденного ЮСТИЦКОГО как на предварительном следствии, так и в судебном заседании доказана показаниями свидетелей АПРОСКИНА (л.д. 14), ГОЛОВАНОВА (л.д. 16, 17) и ТОЛИНА (л.д. 18, 32),
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении жалобы ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича в опротестовании приговора отказать, – о чем сообщить жалобщику. –
Пом. Прокурора г. Москвы
по спецделам – /Образцов/
СОГЛАСЕН: Зам. Нач-ка 1-го Спецотдела
Мосгорпрокуратуры – подпись /Сапожников/
Публикации

Письма В.М. Юстицкого
Письма В.М. Юстицкого из ГУЛАГа, где он провел долгие девять лет (1937-1946), впервые были опубликованы в 1989 году (Симонова А.Т. Выйти из неживой жизни// Волга. 1989. № 7).
Настоящая публикация расширена не только за счет писем к жене Зое Никитичне и дочерям, но и более полно воспроизводятся письма ученице и другу Галине Алексеевне Анисимовой. Собственноручно переписанными (в трех тетрадях), она передала их автору настоящего альбома.
Письма В. Юстицкого потрясают тем, что в невыносимо тяжелых лагерных условиях он размышлял о литературе, музыке, художниках, природе. В нем продолжает жить сильное творческое начало, которое помогло художнику выстоять. «Я не мыслю себя вне своего гуманистического воспитания. В этом основа моей жизни и мое представление о ней. Это помогает мне жить. Это помогает мне переносить все то, что я переношу совершенно незаслуженно в продолжение этих лет». В письмах есть все – и боль, и нечеловеческие страдания, и невыносимая тоска по близким и дорогим ему людям, любимой работе в искусстве, но, несмотря на это, несломленный дух, надежда и вера и огромные творческие замыслы: «В мыслях я остаюсь тем же «фантазером» и рисую себе жизнь в будущем диаметрально противоположной той, какой живу сейчас. Но этот оптимизм есть естественный оптимизм художника, и он, видимо, органически связан со мной и со всей моей деятельностью».
Письма выходят за пределы интимно-семейной переписки и дают основание надеяться, что эпистолярное наследие В. Юстицкого наравне с его живописью и графикой займут достойное место в русской художественной культуре.

З.Н. ЮСТИЦКОЙ
27 ноября 1937 г.
Лей-Губа
Дорогая Заюша! Я написал тебе письмо на прошлой неделе. Просил тебя кое-что прислать. О своем деле я тебе писал. Я судился в августе в Мосгорсуде в Спецколлегии по ст. 58, п. 10 и получил 10 лет лишения свободы, вначале мне было представлено чудовищное обвинение, а кончилось в общем пустяковыми фактами, но тем не менее срок огромен. Работаю лесорубом, сейчас ни о чем не думаю и никаких планов не имею. Писал в Верховный суд, ответа пока нет. Напиши тете Варе письмо, я ей лично не пишу, она будет потрясена. Сегодня я освобожден от работы по грыже, видимо скоро пойду на комиссию. Как ты живешь? Как дети? Как материальное положение, все это меня совершенно потрясает. Как Борис, ему нужно было бы жить с вами, а то остались одни женщины и девчонки[1]. У меня были большие заказы перед арестом, и я предполагал заработать большие деньги и лето провести вместе, но так предполагал, но так не получилось. Я не получил денег с Государственного Литературного музея за свои рисунки[2] к Маяковскому. Я посылал доверенность. С Академии за дополнительные рисунки тоже не получал денег, все откладывали. Мои рисунки последнего времени лежат у тети Вари в папке, там подготовительные работы к иллюстрациям Марселю Прусту «В поисках за утраченным временем».
Я в Карелии, местность совершенно изумительная, по краскам суровая красота, какой-то совершенно особенный колорит, нигде мной никогда не виденный. Здесь на свободе можно написать замечательные вещи, но об этом потом. У меня снова прилив жизнерадостности, я непроходимый оптимист – такова натура. Об искусстве потом, береги детей. В тюрьме много и обстоятельно читал, здесь не вижу книги, ты понимаешь, как это тяжело... Пришли, если есть время и возможность, махорки, рукавицы самые простые, мои носки охотничьи, если они целы, вообще кое-чего съестного, а главное пиши. У меня надежды на скорое освобождение, думаю, что дело пересмотрится. Целую детей, тебя – Валентин.
Г.А. АНИСИМОВОЙ
17 февраля 1938 г.
<...> Ты все время пишешь о том, как я живу? Коротко. Лес, опять лес и опять лес. Тяжелая, непосильная работа, нормы... Прихожу усталый и сплю до утра. Вообще, о моей жизни ты не можешь иметь представления, так как никакая фантазия тебе этого не дополнит. Ты пишешь, как художник, о красоте природы, но я ее не замечаю. Вообще же северная природа замечательно хороша своими серыми тонами, такими тонкими и изумительно мягкими. Природа сурова и скупа. Не знаю, какая здесь весна, но осень была очень хороша. Ты знаешь, что я давно собирался поехать на север и писать Северную сюиту, вещи, о которых я много думал, и какая же ирония судьбы! Ты пишешь, что письма мои бодры, в моих условиях потерять веру в лучшее, значит погибнуть. А это не шутка, когда из всего того, что думал создать и что глубоко ношу в себе, – не выполнена и десятая доля. Вообще, в моих переживаниях нет ничего неожиданного. Тюрьма наложила свой отпечаток, но там были книги, много книг и спокойная жизнь, здесь все диаметрально противоположно <...>. То, что ты работаешь, это меня радует. Тебе даны большие возможности. Наконец, в свое время я делился с тобой всем, касающимся искусства, и мне очень бы хотелось, чтобы ты работала не только по заказу, но и для себя.
25 февраля 1938 г.
<...> Работаю я сейчас на лесоповале. Тяжелая работа, нормы не по силам. Был у врача. Назначили на комиссию. Когда получу инвалидность, буду использован на менее тяжелых работах. (При освидетельствовании констатировали порок сердца и две грыжи. Мало радостного.) Любая специальность все же может найти применение, как-то – бухгалтер, счетовод, повар, сапожник, плотник и пр., но что делать с художником? Он применить себя не может, делать ему нечего. Мечтаю о любой работе, лишь бы с меньшей затратой физических сил. Невыполнение нормы отражается на питании. Сейчас нуждаюсь в сухарях, самых простых, махорке, сахаре. Прошу тебя, не задавайся многим – пришли пока самое необходимое <...>. Настроение притуплённое, иногда проскальзывает надежда на лучшее. Пиши больше, если можешь и есть время. Акварель пришли самую простую, можешь заменить даже цветными карандашами, резинку мягкую, карандаш негра, немного бумаги и нарежь ее мелкими размерами, бумагу самую простую, рисовальную. Интересно, выходили ли мои иллюстрации в свет? Если увидишь, то напиши свое мнение.
Северный лес с горами зимой чрезвычайно красив, особенно при вечернем освещении. Ночи совершенно феерические, с массой звезд и совершенно низким небом. Вообще, тона севера замечательно красивы по благородству цвета. Серые тона переливаются с изумрудными розовым, золотистым или отливают каким-то сферическим серебром <...>
2 марта 1938 г.
...Работаю я на лесоповале. Работа тяжелая, устаю, целый день в лесу, лес чудесен. В Карелии он особенно красив. Часто вспоминаю Сер. Алекс.[3], и какой смысл имеет его небольшое по количеству искусство. Вижу еженощно массу снов, в то время как на воле видел их очень редко. Сейчас вижу прямо сериями. Это какая-то жизнь во сне. Это какие-то сказочные поэмы. Если бы можно было их передать. (Неужели это только болезнь возбужденного мозга?) В душе предчувствие, что жизнь моя должна измениться в лучшую сторону. Какой-то кульминационный пункт моих страданий (а в страданиях смысл и радость бытия).
20 марта 1938 г.
<...> О себе писать почти нечего. Повторяю, что все так же и все то же. Дни похожи один на другой, текут с поразительной однообразностью – это полужизнь, где кажется, что частично похоронен и предметы теряют свою ощутимость. Ты знаешь, что я жил несколько эгоистической жизнью, я не жевал, а глотал жизнь. Делал я это с огромной быстротой и с какой-то особой жадностью. Сейчас наоборот, я мечтаю о покое и тишине. Я не могу сосредоточиться и разобраться в окружающем с той необходимой ясностью, как это мне нужно. Ты пишешь о работе по специальности, но ты знаешь или догадывалась когда-либо, что искусство не специальность, это что-то совсем иное. Я просто рисую больше для упражнения, рисую честно, почти академически, из боязни, чтобы совершенно не отвыкнуть. Просто по привычке.
<...> Краски и карандаши, которые ты мне прислала, – хватит надолго, если можно, пришли сухой туши и конечно бумаги. Бумагу пришли любую. Здесь я не делаю вещей, имеющих какую-нибудь художественную ценность. Просто для упражнения.
26 марта 1938 г.
<...> Сегодня первый день весны. Ты себе представить не можешь, как он прекрасен. Это мой любимый, с какой-то особенной мягкостью, легкий, моросящий дождик тихо и нежно ударяет по плохо вставленным переплетам. Через стекла запыленных окон виден совершенно особенный северный пейзаж. Это что-то от тонко малиновых до желтых, до серо-голубых тонов, контуры почти черные, с глухим серебристым отливом (как в крыльях молодых голубей). Горы и небо – все как бы покрыто вуалью нежной и печальной. Останавливает глаз только повислость нашей российской березы (она должна войти в композиции художника, она прекрасна и свята. Это какая-то мадонна Севера). В своих вещах я не понимал берез, у меня не находился язык для них. <...> Сейчас вечереет, писать трудно. Тени причудливо ложатся от лампы (насколько лучше для художников лампа, как она неожиданно дает совершенно новые эффекты в освещении). Отсюда все Рембрандты и Гальсы. Я не хотел писать тебе о живописи, но что-то внутренне толкает меня.
Уж очень я оторван от нее. Это длится долго и мучительно. Какие-то моменты переживания совершенно неповторимы – это тяжело. Я переживаю состояние какого-то космического бытия, когда вещи кажутся особенно четкими и значительными. Так хочется бросить все, забыть и хотя на минуту ощутить себя художником. Годы проходят, а сделано так мало <…>
19 апреля 1938 г.
...Писать о себе нечего. Все так однообразно и повторно... В общем живу несколько лучше, свыкся и впал в общую колею. Подобрал на дворе окатившуюся кошку. Приютил у себя. Живет она под кроватью. У нее трое котят (это общие наши любимцы). Вот несколько дней, как они стали смотреть. Вообще, их присутствие радостно, а ум и такт кошки прямо-таки поразительны. Она так умна и со мной сдержанно благородна (животное много дополняет в нашей жизни и особенно в моем положении)…
То, что ты работаешь по скульптуре, – это отлично. Лучше я не предполагал, это необходимо каждому художнику. Освоение формы пластической без скульптуры немыслимо. Я в свое время много работал по скульптуре и очень жалею, что, отдавшись живописи, как-то забросил ее. Возможно, что в ближайшее время займусь резьбой по дереву. Здесь нет липы, но можно, думаю, заменить каким-нибудь мягким деревом. Здесь береза в разрезах так красива, что я никогда не видел ничего ей равного. Один прораб сделал себе портсигар, причем красота натурального дерева осталась нетронутой. Вообще можно делать изумительные вещи из дерева, но этим опять-таки нужно заняться серьезно. Мое несчастье, что в мои годы требование к себе возрастает и не удовлетворяется пустяками. Рисую сейчас ежедневно, но как-то механически. На днях под утро видел перелет лебедей. Зрелище исключительное... Белые лебеди на фоне утреннего неба (голубоватое с зеленью, несколько погашенное по тону). Благодарю за поздравление ко дню рождения. Я его совсем забыл. Годы идут, и каждый час приближает к смерти, а сделано так мало, а данных было так много. И вся работа моя носит какой-то подготовительный характер к чему-то фундаментальному, а осуществить ее удастся ли? Мысли, нервы, глаза – все изнашивается и приводится временем в негодность, да и интерес может постепенно остыть, и появится та холодность в вещах, отчего они станут еще более непонимаемы...
26 апреля 1938 г.
...У меня, видимо, грипп или что-то в этом роде. Чувствую себя очень скверно. Позавчера совершенно не спал, температура, хандра и боль во всех суставах. Возможно, что это следствие Карельской затяжной весны. Ночи морозные, ясные, холодное утро и холодное солнце днем. Озера замерзшие, снега много. Принимаю аспирин и пр., но толку пока мало. Одним словом, очень нерадостное состояние. Личная, т. е. своя, жизнь, видимо, кончилась. Нет смысла и нет будущего. Все мрак и неясность. Живу из-за вас и любопытства. Думаю, что и это имеет свой предел. Никогда не предполагал, что так тяжело буду переносить заключение. Главное, безразличие тупое и всесущее. Мысли опять те же, что жизнь давно кончилась, и настойчивая мысль, что живу лишнее. Хочу думать, что это следствие этого состояния здоровья. Писал в Москву по делу, нет уверенности, да и какое дело? Вообще тяжело. От детей писем нет. Как живут? Можно только предполагать. Жаль детишек. Их жизнь не баловала, и этот их оптимизм когда-нибудь приведет их к той же трагической развязке, как и меня. Вчера читал Тургенева. Какая чистота и ясность! Запоем прочел «Асю», «Дневник лишнего человека», «Затишье». Нужен такой писатель. Я как-то просто читал в юности, а теперь с большим волнением. Часто приходят ко мне, просят нарисовать, главное, конечно, портрет. Но эти заказы суррогат и приближение к фото. Ничего, конечно, толкового сделать нельзя.
Я как-то нарисовал одному рисунок, сам уговорил его. Русское лицо, широкое и большое.
Превосходная черная борода. Вообще очень волосист, с маленькими, несколько раскосыми глазами. И представь себе, делал, как хотел для себя, и рисунок очень понравился ему, пришлось его подарить.
3 мая 1938 г.
<...> Мне так одиноко и тоскливо, что и передать трудно. Да и погода, как нарочно, особенная. Все эти дни дует северный ветер, снег и метели не проходят, холодно и особенно тоскливо. Вспоминаешь Россию, где весна и оживление, и все кажется такое далекое и мало реальное. Здесь какой-то особенный, завывающий ветер, мокрый снег и вертикали сосен. Все бело-серое и однообразное, да и моя жизнь, как ничто, вторит этому пейзажу.
Живу в новом доме, какое-то особое ощущение у меня всегда было к новому жилью, еще не освященному человеком. Есть что-то языческое в ощущениях от деревянных домов и что-то очень древнее. Весна здесь всегда поздняя, дни очень длинные – до 12 часов день, а скоро начнутся северные белые ночи, когда можно читать по ночам, а нервы в это время особенно обостряются. Сплю мало, приходится дежурить среди спящих людей. Масса мыслей: сотни, тысячи, миллионы разнообразных почти видений проходят в этом состоянии полудремоты. Днем не всегда имеешь возможность выспаться – отсюда и настроение – далеко до нормального и спокойного. Здоровье стало лучше, да о нем я меньше всего думаю. (Правда, в моем положении болеть трудно.) Иногда рисую нервно и торопливо – и всё лица. Такого разнообразия вряд ли я когда-либо имел. Бывают какие-то тяжелые и крепкие сны с массой сновидений, ах, если бы можно было их записывать!
Видишь все каким-то прекрасным и ясным. Жизнь во сне кажется прямо чем-то замечательным. Все как-то приподнято и воодушевлено. Это какой-то контраст с действительностью.
З.Н. ЮСТИЦКОЙ
15 мая 1938 г.
<...> Письмо, полученное от тебя, совершенно меня выбило из установленных мною мыслей, к этому прибавилась твоя фотокарточка. Боже! Как ты изменилась и как похудела, и вообще, у тебя такое страдание на лице, что я совершенно был потрясен. Это печать, которую наложила на тебя жизнь, и это мне было сразу же понятно. Эта фотография показала больше, чем письмо, и сказала мне многое, что меня так беспокоило. Я понимаю твое состояние, понимаю весь ужас твоего положения и ту безысходность, в которой очутилась ты. Родная моя! Возьми себя в руки, изгони из сердца и мозгов все, что мешает тебе жить, хотя бы ради детей, а это звучит хорошо, и тебе станет легче.
Но одновременно ты знаешь, что я плохой утешитель и что сам переживаю жестокую часть жизни.
Сейчас ночь, в бараке спят, я дежурю. По ночам вообще приходится мне не спать. Это очень утомительно, но что делать. Из окна льется серебристый свет светлой карельской ночи, ночь совершенно тихая, еле прерываемая перелетом ночных птиц, но эта поэзия не для нас! Вспомни, как ежегодно мы уезжали в глушь и как это замечательно действовало на нашу семью. Ты спрашиваешь, о чем я думаю и чем живу? Поверь, что я ничего не понимаю и живу в каком-то состоянии отупения, живу механически, и только иногда бывает состояние просветления и проблески чего-то лучшего, к чему не может не стремиться человек, но затем снова наступает черствая и сухая действительность. Я, который, казалось бы, мог вдохнуть жизнь и оптимизм в любой организм, сейчас, когда это так необходимо, не могу найти в себе ничего сколько-нибудь радостного, потому что в душе безысходная ночь. Страшная ночь, которая, кажется, не имеет конца. У меня последние годы были тяжелые предчувствия, и вот они нашли исход, отсюда моя трагедия. Как бы хотелось увидеть вас! Жизнь очень и очень непонятна, я ее ощущаю космически. Пиши мне больше, я сейчас живу только этим, это как-то меня сообщает с живой жизнью.
Г.А. АНИСИМОВОЙ
9 июня 1938 г.
...Посылки несколько оживили мою повседневность. Каждая вещь или даже обертка – все как-то напоминает живую жизнь, живых людей. Это имеет и плохую сторону, так как заставляет больно переживать, и хорошую, так как обобщает тебя с живым миром представлений. Позавчера рисовал один портрет на твоей тонкой бумаге. Для карандашей и особенно тушевальных она превосходна, но условие, нельзя делать ошибки и применять резинку. За это время я сделал целую массу рисунков голов, до такой степени разнообразных и характерных, что о лучшем выборе нельзя и мечтать. Сейчас рисую разные мелкие вещи, как-то: стебли трав, ветки деревьев, концы деревьев и вообще всякую запутанную мелочь. Это дает мне физическое наслаждение. И затем вводит в какое-то новое представление. Цветные карандаши заменили мне все, я им нашел применение и рисую в два-три тона через черный цвет. Это интересно и очень неожиданно. В отношении времени у меня сейчас не плохо, но только скверно со сном, его не хватает и это чувствительно. Эти дни стоит у нас хорошая погода, но холод не прекращается. Общий вид уже чисто летний: спокойные воды, редкий плеск воды на озере, утки сели на гнезда и только к ночи пролетают огромные черные вороны над сонным лесом. Здесь несказанно красивы мхи – это сплошные узоры из серо-коричневых, голубовато-серых и даже серо-черных массивов бархатистых и насыщенных – ступаешь по какому-то сказочному ковру. А особенно украшает пейзаж – это массивы серых, огромных камней. Они так небрежно разбросаны по несколько однообразному пейзажу. Но об этом писать долго, да и не это волнует меня. Самое положение и неясность лишает всякого твердого состояния духа. Не знаешь, что будет через час и куда будешь переброшен и, вообще, что будет с тобой. Какое-то душевное утомление и усталость. Хочется иногда лечь и не просыпаться.
Все, что произошло со мной, – нелепым клином внедрилось в мою и без того запутанную жизнь. Надеюсь мысленно, что все имеет свой конец и что все идет к лучшему. И в этом конце бесконечности нужно искать разумное утешение. Путь тяжелый и тернистый, но что делать?! Зато разнообразный. Я фатально верю, что нужно и предрешено снова жить и писать вещи, писать непрерывно. Я переполнен, я задыхаюсь под тяжестью тем и мыслей. Осуществить хотя 1/10 того, что гнездится в сознании. Как мало мною сделано из того, что нужно было, а сколько было заложено природой для этого. Это что-то чудовищное по запутанности и неясности...
ТАТЬЯНЕ ЮСТИЦКОЙ
26 июня 1938 г.
Дорогая Татьянка. Спасибо за письмо. Спешу тебе на него ответить. Ты напрасно огорчаешься за мое плохое настроение. Это так естественно в моем положении. Тебе многое, ангел мой, непонятно, но об этом потом. Самое приятное и отрадное это то, что у вас все благополучно, занятия кончились, учебный год прошел успешно. Ваша бодрость вселяет во мне радость, это укрепляет и освещает мою безрадостную жизнь тем светом, без чего немыслимо существование. Работаю я много на тяжелой физической работе. При моем здоровье и в мои годы мне крайне тяжело. Особенно мучительна грыжа, которая мешает работать и доставляет мне постоянные хлопоты, да к тому же и сердце не в порядке. Йод я не принимаю, лечиться негде и нечем, отсюда, возможно, и настроение. Работаю по десять и более часов в сутки, прихожу совершенно усталый и валюсь в постель, и так ежедневно.
Погода здесь особенная, ежедневные дожди, немного солнца, миллиарды мошек и комаров. Распухли руки и ноги, а также и лицо. Даже зима при всей суровости кажется здесь желаемой. Постепенно угасают надежды на лучшее, по-животному понимаешь жизнь ограниченно и тупо. Вот собственно все о себе. Вы мне казались такими неспособными бороться за жизнь, и это было с моей стороны ошибкой. Оказалось, что вы более жизнеспособны, чем я ожидал, я чувствую от этого облегчение. То, что у вас квартиранты культурные люди, это хорошо, сохраняйте добрососедские отношения с ними. Да, впрочем, вы такие добрые и славные девчонки, что к вам относиться нельзя плохо. Татьянка! У тебя теперь целый год впереди, подумай, где учиться дальше, не спеши с выбором вуза, учти, что самое ужасное – это работать не по тому делу, которое любишь, выбирай учебное заведение не из материальных выгод. Читай больше, помни, что литература заполнит тебе те пробелы, которые имеются у тебя в образовании. Приучайся читать классиков, у тебя есть время. Возьми древнюю и старую литературу и не только одну русскую. Если ты захочешь, я тебе напишу названия книг, которые необходимо прочитать или, вернее, изучить. Ты сама поймешь, что с каждой книгой ты будешь расти, и многое понимать, и по-другому смотреть на вещи. Не ограничивай себя только школьной литературой, бегло и наспех прочитанной. Возьми книги эпохи Возрождения до хотя бы XVII века, прочти не только их, но и о жизни их авторов. Прочитай о жизни великих людей, чем и как они жили, и тебе станет легко жить, и все мелочи, которыми живут многие, станут незначительными. Я тебя сознательно останавливаю до XVIII века, и тут нужно будет остановиться и особо изучить таких, как Дидро, Руссо, Вольтер и пр. Ты любила историю – это очень хорошо, ее знать нужно обязательно. Жаль, что я так далек от всего, о чем пишу тебе, что не могу дать систематический план, но, в общем, поговори с мамой, она кое в чем тебе поможет. По русской литературе ты читала много, как по девятнадцатому веку, так и последующую литературу, но это еще не основательно, нужно читать и второстепенных авторов. И вообще уметь находить ценное и значительное, тут нужно посоветоваться с опытными людьми, но нужно сохранять и свой вкус в выборе (без этого не будет интереса). У вас консерватории, ходи слушать серьезную музыку. Я тебя предостерегаю от того, что только кино и несколько драматических спектаклей, вот и все, этим ограничиваться страшно...
Г.А. АНИСИМОВОЙ
3 июля 1938 г.
<...> Живу на новой командировке. Условия значительно хуже, чем раньше. Все это время на общих работах, тяжелых, не по силам, ежедневная непроходимая усталость и... сон. Ничего не замечаю и не вижу. Сейчас, несмотря на так называемый легкий труд, не рассчитываю на какую-либо иную работу, т.к. большинство даже слабых брошены на общие работы. О моей жизни говорить нечего, она больше способна вызвать удивление со стороны, чем сколько-нибудь тронуть меня лично, до такой степени я безразличен и не существую.
Ни о каких рисунках и пр. не думаю, да и смешно об этом говорить в моем положении. Применять себя куда-либо до сих пор не могу. Моя специальность и вообще мои знания и опыт в условиях лагеря ничего не значат. Здесь не место искусству, изящной литературе, философии и пр. Даже стыдно внутренне самому за этот никому не нужный балласт. За свою жизнь я многое видел, но этой жизни не предполагал...
Казалось бы, все так естественно, воздух, вода, земля прекрасная и пахучая, лес, трава и камни... Кажется, что к этому и стремился и твое существование действительно, а на деле ничего этого не видишь и не замечаешь, до того отяжелен рассудок и распластаны мысли и чувства... Это не поэзия Милле с его любовью к природе. Это не Пюви де Шаванн со своими лесорубами... ни даже натурализм Шишкина. Это что-то особое. И на моем положении природы не существует. Состояние душевное постоянно плохое. Интересов и перспектив нет и, видимо, не может быть...
P.S. Половить рыбу не удалось. Даже снасти, которые ты прислала, и те отобрали. Не полагается <...>
22 июля 1938 г.
<...> Получил извещение о том, что мое заявление[4] направлено или уже находится в прокуратуре у Вышинского. Нужно ждать ответа. Может быть, что-нибудь и изменится с пересмотром дела. Я как-то на это очень надеялся, да и сейчас думаю и жду некоторого облегчения с этой стороны. Заявление я написал просто и искренно, указав на целый ряд допущенных неправильностей и неясностей, и уверен, что при внимательном отношении к моему заявлению – дело примет иной оборот.
Сейчас я далек от гаданий и смотрю на все иными глазами. Часто думаю о твоей жизни и о том, как она у тебя сложилась, как усложнена и какое-то роковое одиночество тебя преследует постоянно. Поверь мне, что это твоя первая половина жизни, а вторая обязательно будет иной. Тут есть какой-то закон. Работай больше и, главное, для себя, не губи своих недюжинных способностей, помни, что настоящих художников единицы и что маленький рисунок или еще что-либо могут и будут жить столетия, в то время как огромные полотна станут никому не нужными. Значит, все не в количестве, а в особом качестве вещи, в ее выношенности, в диапазоне автора, в его огромном внутреннем существе, горении. Наконец, искусство заменит тебе многое, а часто это и есть главный стимул настоящего художественного произведения. Пользуйся этим, пиши и рисуй больше. Ты освобождена от всего отвратительного, что есть в художниках: это слава, популярность, жадность к деньгам, значит, это все облегчит твою настоящую дорогу. А главное – вера в себя и вера в необходимость и обязательность служения искусству. Я был бы совершенно удовлетворен, если бы знал, что ты работаешь. Я лишен этого, но вспомни, сколько было в тебя вложено и как много ты понимаешь, и было бы преступлением ограничивать себя только какими-то договорными работами на заказчика <...>
ТАТЬЯНЕ ЮСТИЦКОЙ
август 1938 г.
...Если бы столько сил и нервов я потратил в любой области за эти полтора года, многое можно было бы сделать. Мне остается немного времени размышлять о превратностях судьбы, так как занят опять много не своим делом, а поэтому и соответствующее постоянное состояние духа, не знаешь, куда себя деть. Сейчас работаю на Кон. базе, ты это сразу не поймешь, постараюсь объяснить тебе. Это большая конюшня, много лошадей, а лошадей я люблю ужасно, ты знаешь. Ну, там конюхи, шорники и пр. Вот тут я работаю статистиком и нарядчиком. Постоянно с лошадьми, один запах их уже действует прекрасно на потрепанные нервы. Пожалуй, это единственная работа, которая что-то дает не уму, так сердцу. Лошадь – это замечательное животное. Нужно их близко знать, чтобы чувствовать прелесть присутствия этих больших и умных животных. Дни проходят за днями так же однообразно, как они проходили все это время. Одиночество, несмотря на внешнюю сутолоку, вот и все. О себе писать нечего, где-то присутствую в неком пространственном плане. Наступает осень, а за ней зима. Хочется подобно медведю лечь и проспать всю зиму, как вспомню прошлую, так жуть берет...
Г.А. АНИСИМОВОЙ
16 сентября 1938 г.
<...> Пишу тебе письмо из кабинки, где работаю, сейчас работаю маркировщиком (т. е. по сортировке леса). Ты и представить не можешь нашей жизни. Работаем много, все время на воздухе, работа до этих дней была тяжелая, так как работал на лошади простым возчиком. Сейчас, конечно, хотя и ответственнее, но легче.
У нас жизнь совершенно особая. Я только один раз слышал плач ребенка на Май-Губе, и он подействовал на меня сильно. Женщин у нас нет, и я их видел, не знаю когда. Отсюда, конечно, и та грубость взаимных отношений, которая царит здесь. Лагерь этот, видимо, строгого режима, т. к. присланные тобой 10 руб. и те не выдали. Вообще, здесь строго. Верру-Губу вспоминаю не без удовольствия – там было проще.
Погода стоит убийственная, ветры и дожди. Настолько сильные ветры, что валит огромные деревья. Очень бурная, как на картинах у Сальватора Розы. Темы блестящие <...>.
Если можно, пришли кое-что из жиров. У меня на почве органического изменения состава крови – все время какие-то нарывы – это мучительно.
18 сентября 1938 г.
<...> Живу я на новой командировке. Постепенно осваиваюсь. Беспокоит зима, а она постепенно приближается, новые заботы даже у меня. Холода стоят у нас сильные, все время ветры. Северные, пронизывающие. В лесу как-то беспокойно. Красота здешнего пейзажа трудно объяснима. Здесь горы, озера, леса.
Очень красивые утра и вечера, когда силуэты очень бурного пейзажа несколько смягчены общим колоритом, сдержанным серым. Небо чрезвычайно красиво в Карелии, и отражения в зеркалах озер просто замечательны по своей живописности. Осень в полном разгаре, стаи уток проносятся с озер, часто в лесу вспорхнет уже совершенно окрепший тетерев и сонно взлетит рябчик. Ягод и грибов бездна.
Клюква просто рассыпана по земле на мшистых массивах болот, количество ее неописуемо. Много брусники и самых разнообразных грибов. Лес какой-то девственный, очень красивый ковер мхов, с этой стороны я очень удовлетворен, что вижу этот пейзаж, он очень обогатил мое представление о Севере. Вообще, он очень своеобразный, жаль только, что нельзя его написать, условий для этого нет, а пейзаж замечательный <...>.
Работал я тут несколько дней возчиком, радостно было подходить к лошади, до чего прекрасны эти животные, и как они прекрасно чувствуют людей, которые их любят <...>.
24 сентября 1938 г.
...Сегодня прекрасный осенний день, и это так располагает к общению. День сегодня из всех дней тот самый серый, сухой и с легким ветерком. С утра шел мелкий дождик, нежный и теплый. Все тяжелые мысли за ночь сразу отошли (природа имеет какую-то особую живительную силу). Абрис деревьев здесь совершенно особый – ажур тончайших кружев из веток елей дает замечательное сочетание с серебристым фоном неба, несколько взлохмаченного ветром. Озера закрыты стеной деревьев. Когда смотришь с горы, озера капризно разбросаны на массиве леса. Днем видишь северную сову на верхушке сухостоя, дятлы черные и большие, таких я не встречал. Вообще птицы много, но она как-то вся разбросана. Скоро подымутся на перелет гуси, лебеди и утки. Ночи стали строгие и темные, встаю рано, с темнотой. Вообще нет определенных часов сна, отдыха, работы. Все перемешано.
Рисую редко или, верней, очень коротко. Лица, лица и еще раз лица. Какой-то конгломерат из лиц, разнообразных до невероятия. Я как-то рисовал одного грузина с такими чудесными глазами, каких я никогда не видел. С чертами лица ясными и простыми, с небольшой бородой, окаймляющей почти женское лицо. Он молод и грустен. Вот объект для иллюстраций к кавказским вещам. Я вспомнил Лермонтова, который так неудачно иллюстрирован. Кроме, конечно, гениального Врубеля. Если и схватываешь что-то – как-то на лету. Сходство я стал давать мгновенно. Но, к сожалению, почти всегда однообразная моделировка, вызванная однообразным освещением. Читать нечего, книг нет, да если и попадаются случайно, то все дрянь. А как хочется лежа посмаковать хорошую книгу. Помнишь Пруста «В поисках утраченного времени», какая жемчужная литература, хороша, откуда ни возьми. Попадался мне здесь томик Толстого, из его дневника. Потрясающе умен Толстой, даже страшно. Как будто видит все насквозь. Хорош, очень хорош. Вот видишь, как мало нужно видеть, а написать все же нашлось кое-что. Это бедность впечатлений, вот откуда такой смысл приобретают вещи. Ночью закрываю глаза, думаю. Мысли и образы с огромной быстротой проходят перед глазами. Много вспомнил того, что утонуло в памяти, а теперь с исключительной ясностью встало передо мной. Иногда запах какой-то специфический возвращает целую картину пережитого. Но все рассеянно, и нет возможности собрать хотя бы приблизительно.
В будущее не заглядываю, оно закрыто и темно. Только иногда какой-то свет мелькнет – и покажется, что ты снова станешь жить и выйдешь из неживой жизни.
Жизнь течет, все изменяется, появляется новое и исчезает старое, но что-то вечное, доброе никогда не исчезнет и огромной силой наполняет существо наше, и так радостно и значительно кажется все вокруг. Я уверен, что дело пересмотрят, что настанут лучшие времена и что все, что пережито так тяжело, уйдет в вечность, а все лучшее выявится с возрастающей силой <...>
ТАТЬЯНЕ ЮСТИЦКОЙ
12 октября 1938 г.
Дорогая Татьянка! О себе писать нечего. Я живу на новой командировке, о ней писал вам. Работаю по маркировке леса. Прихожу мокрый и усталый, вот и все... Осень у нас полная и, конечно, прекрасная, несмотря на дожди и ветры. С озер поднялась птица, по утрам часто видишь лебедей, тетерева летают целыми стаями, мхи усыпаны клюквой крупной, как вишня (такой я никогда не видел). Лес как-то обнажился, стал строже, горизонты стали мягкие и нежные. Часто по утрам с высокого холма, идя на работу, я наблюдаю совершенно исключительный по красоте пейзаж заливов и озер с игрушечными маленькими катерами, лодками и огромными плотами.
Жаль, что ты не знаешь французской живописи, они так напоминают простые и выразительные вещи Марке. Но по тону они значительно богаче. Живу сейчас несколько яснее и спокойнее, как-то ожился, отупел и мало о чем думаю. Прошло около двух лет, времени прошло много. За это время ребенок многое стал бы говорить, но в моем возрасте это как-то мало себя выявило. Стал я суше, безразличнее, без веры и надежд, поседел и вообще весь посерел, не люблю себя видеть даже в зеркало, не люблю свой голос и вообще себя. Те перспективы, что были раньше, разрушены и невозвратно ушли. Хочется всех вас видеть, думаю, что вы выросли и стали неузнаваемы.
Г.А. АНИСИМОВОЙ
3 января 1939 г.
<...> Я живу все время в лесу и стал совершенно лесным человеком. Ориентируюсь в нем как дома. Ухожу темнотой и темнотой возвращаюсь... Устаю очень, иногда еле доплетусь до лагеря, особенно если принимаю лес. Так напрыгаешься, что и сказать трудно (в мои годы это не так легко, но что делать!)...
Живу предчувствиями, снами и пр., живу замкнуто в себе. Таким я себя не знал... Это сделали из меня условия этих лет. Смотрю сейчас на лес, он в зимнем уборе удивительно красив и девственен, в нем свое величие и строгость, та строгость, какая бывает в готике и которая мне близка по своей концепции.
Итак, нужно заканчивать. Времени нет ни подумать, ни толково написать письмо. Все спешим куда-то, как будто людям неизвестна их конечная цель, к которой они приближаются каждый по-своему...
6 января 1939 г.
<...> Внутреннее состояние как-то спокойнее, и я стал более уравновешен. Жить иллюзиями не по годам. Жаль, что проходит время, проходит бесполезно и напрасно, и что оно невозвратимо, и каждый день приближает тебя к естественному концу. А сколько осталось жить, кто знает? Годы проходят, как текучие воды, прибавляя морщин и седин на голове, унося надежды, веру, иллюзии, чем живет молодой человек, и остается истинная, сухая действительность. Вот все, что могу сказать о себе. Радостного в этом мало, но что делать, зато реально.
Ответа от прокурора все еще нет, это хорошо. Значит, что-то делается. А если дело будет пересмотрено, то это равносильно освобождению, потому что фактически дела нет, я в этом совершенно уверен. Есть какое-то предчувствие, что в моей жизни будет скоро перемена в лучшую сторону и что полосе невезения должен настать конец. Так хочется проникнуть и заглянуть в неизвестное будущее <...>.
22 января 1939 г.
<...> Мое счастье и мое несчастье в том, что я сумел пронести через свои почти пятьдесят лет ту детскую, порывистую веру в лучшее человека. (А может быть, я и далекий от действительности человек!) Но в вечном движении мысли и чувства трудно дойти до понимания своих подлинных путей. Я не мыслю себя вне своего гуманистического воспитания. В этом основа моей жизни и мое представление о ней. Это помогает мне жить. Это помогает мне переносить все то, что я переношу совершенно незаслуженно в продолжение этих лет. Бывают состояния огромных душевных сдвигов, когда все кажется невыносимым и когда вся бессмысленность моего существования встает во весь рост, но одновременно в мозгу родится страшный интерес к подобному состоянию и какая-то необходимость в испытании страдания, без чего немыслим законченный человеческий образ <...>. Ко всякого рода лишениям я совершенно равнодушен: и желание вкусно поесть, и удобно лечь спать, и тепло одеться – все это потеряло для меня то значение, которое занимало у меня в живой жизни. С этой стороны я, конечно, изменился, но это несущественно. В мыслях я остаюсь тем же «фантазером» и рисую себе жизнь в будущем диаметрально противоположной той, какой живу сейчас. Но этот оптимизм есть естественный оптимизм художника, и он, видимо, органически связан со мной и со всей моей деятельностью <...>.
9 февраля 1939 г.
Сейчас я работаю в лесу, и так ежедневно. Жду приемки леса и, пользуясь свободным временем, решил написать тебе письмо. Вечером бываю очень усталым и совершенно не способен написать даже тебе, настолько я устаю. Ходить приходится много, да, кроме того, приемка в лесу очень обременительная. Снегу по уши, ползаешь по бревнам, как медведь, а при моей грыже это не только тяжело, но и опасно.
Приходишь домой мокрый и усталый до изнеможения, и, кроме сна, нет ничего в голове. С питанием у меня стало хуже. С жирами очень скверно, их нет. И нет витаминов. Отсюда много хлопот: если порежешь палец и натрешь ногу, то сразу образуются нарывы, и залечиваются очень длительно. Наш врач мне посоветовал пить рыбий жир, но где его достать? И написать тебе, чтобы ты мне прислала овощных консервов, главное томат-пюре, он недорого стоит, а очень необходим. Чеснок, который ты мне прислала, померз, и его пришлось выбросить, а он особенно нужен нам.
Сейчас сижу в лесу, падают редкие хлопья снега, все засыпано кругом! В эти дни большие снегопады. Лес очень красив в зимнем уборе, а зиму мы плохо пишем и плохо умеем понимать, в то время как тонально она особенно богата своими тонкими переходами. Отношения абрисов деревьев к небу исключительно красивы и гармоничны. Нет ни одного диссонирующего пятна. Все так законченно и гармонично. Я часами наблюдаю северную природу, она еще не отражена в искусстве, а в ней масса изумительных моментов.
Иногда так болит душа, когда видишь, как красавица елка падает бесшумно под пилой лесоруба. Ели здесь тонкие и высокие, нежные и торжественные, как невесты <...>.
От детей нет никаких сообщений, а во сне их видел плохо, будто бы мне прислали черные и искаженные фотографии. Был несколько дней в тяжелом состоянии под влиянием этого сна. Одиночество съедает совершенно. Ни общих интересов, ни мыслей ни с кем нет. Состояние вообще притуплённое <...>.
14 февраля 1939 г.
<...> Ты пишешь, что работаешь день и ночь. Это напрасно. Нужно беречь здоровье. Помни, что силы наши ограничены. Я считал свое здоровье непоколебимым, а теперь вижу, что и оно дает трещины. Сделай из этого соответствующий вывод для себя. То, что кое-кто говорит с тобой обидно, не обращай на это внимания и ставь себя выше всяких обывательских разговоров. Помни, что ты человек искусства и тебе жизнь понятна и ясна значительно глубже, чем любому из них.
Над копиями работай, раз они дают заработок (все же возишься с красками, а это много значит). Но обязательно работай и эти маленькие вещи, которые тебе предлагают. Пейзажи писать, это затруднительно. Нужно искать место. Ходить с этюдником, считаться с погодой и пр. Одним словом, все, что связано с пленэром, затруднительно. Я советую тебе другое. Пиши небольшие натюрморты, ты их делаешь хорошо. Для этого купи цветов, можно искусственных, небольшая драпировка и для н.м. (натюрморта. – А. С.) все. Вкус у тебя есть. Поставить сумеешь. Пиши скромно и тонко, как ты писала в институте <...>.
У меня какая-то особенность, когда я длительно не работаю по живописи, то после этого периода я пишу неожиданно лучше. И эти вещи были всегда наиболее ценными. Такими были мои молочницы, затем рыбаки и гуаши. Меня это всегда очень поражало и удивляло окружающих. Так как в творчестве ты очень напоминаешь меня, я думаю, что с тобой могут быть те же явления. Но помни, время идет, и нужно начинать работать свои вещи. Это оправдание всего нашего существования.
8 марта 1939 г.
<...> Разумом я понял и совершенно покойно переношу свою тяжесть, но сердце также неспокойно, как оно и было, и логика не успокоит сердца, в этом трагедия. Как хочется через все испытания перенести ясность мысли и то доброе начало к человеку, что было положено мною в начале моей сознательной жизни. Многое приобрел я здесь и многое утерял, но в целом я все тот же <...>.
Эти дни, когда я лежал в температуре и чувствовал обостренное нервное состояние – я видел поразительные сны. Это была несмолкаемая музыка, какой-то Бах (не точно), что-то церковное и торжественное. Я проникал в какие-то лучезарные пространства, поразительные по цвету. Лучи шли в разных направлениях то прямыми линиями, то спирально. Цвет был как бы иллюстрацией музыки. Вибрация цвета была поразительна, тонкая, еле уловимая, а при музыкальных подъемах все преображалось в какие-то ясные тона, почти торжественные, и только извилистые черные линии шли все время как некий лейтмотив. Это какая-то музыкальная, беспредметная живопись. Но она сферична и при ясности очертаний не имеет никаких точных границ. Все мгновенно переливается, все это очень кинетично. На утро я испытывал состояние чрезвычайно интересное, какую-то наполненность и даже удовлетворенность. Чувствовал себя приподнято. Описать этот сон точно я не имею возможности. Он грандиозен, это путешествие мысли, в общем, это какой-то космический сон, причем пространства грандиозны, все как-то безгранично и огромно. Но особенно интересно это сочетание цвета с музыкой. Нет сомнения, что будет когда-нибудь такое искусство. Такого цельного впечатления я никогда нигде не получал. Значит, где-то в извилинах мозга имеются зародыши соединения этих двух искусств в новый организм. В общем, то, что я написал, лишь слабая передача того, что я хотел описать. Там все гораздо значительнее. Интересно то, что я ночью просыпался, разговаривал и снова продолжал видеть этот сон <...>.
12 марта 1939 г.
<...> Жизнь течет, постоянно меняя свои кажущиеся твердыми очертания, и только доброе начало любви, как верный маяк, стоит на пути думающего человечества, способного понимать всю глубину человеческих переживаний, их страданий и их стремлений. Я особенно остро понимаю, какое значение в жизни будущего должно занять искусство, позволяющее нам любить и понимать какого-нибудь таитянского негра, нежно чувствовать природу и становиться внутренне все сдержаннее и добрее. Я часто вспоминаю истинные источники красоты, какими были по чистоте катакомбные изображения, антики, искусство ранней готики – до подлинного искусства французского импрессионизма. Чувства большого душевного накопления я получаю даже при воспоминании о них. Все это искусство было выстрадано человечеством на заре своей истории. Оттуда такое сильное впечатление и какое-то огромное содержание, о котором часто и не помышлял автор. Это было органически.
Эти дни я лежал больной. Я тебе писал, что у меня была какая-то опухоль на ноге. Это было мучительно. Сейчас все заживает, и я чувствую себя несравненно лучше. И вот как-то я совершенно случайно достал томик Тургенева. Я был в полном волнении, перечитывая вещи, которые я читал много раз: «Вешние воды». Эта повесть произвела на меня сильнейшее впечатление. Я ее читал как-то по-особенному, вникая в каждую строчку, возвращаясь и перечитывая некоторые места. Помимо подлинного искусства, вещь пронизана тончайшим пониманием жизни (любовная встреча утром описана гениально, т. е. она дает максимальную передачу мысли автора). О языке говорить не приходится (какой красивый русский язык!). Это был большой праздник!..
22 апреля 1939 г.
<...> Из глубоких каких-то источников моих душевных переживаний родится мысль о новой жизни для меня, жизни творческой, деятельной и разумной. Из какой-то физической, полуживой, животной жизни выступает какая-то необходимость в созидательной, осмысленной жизни. Душевное состояние стало яснее, и будущее уж не рисуется столь мрачным. Вера в справедливость, в доброе начало довлеет над всем моим сознанием. Отсюда и тот некоторый оптимизм, который как-то стал перебарывать мои темные и мрачные мысли и чувства. Пишу тебе письмо в лесу. Сегодня чудный весенний день, хотя много снегу и много (перед глазами панорама леса) массы стройных сосен и елей, низкое северное и голубое небо, ясное и чистое, какие-то глубокие, лиловые тени на земле и снегу, легкий ветерок качает вершины деревьев и родит мысли о значительности жизни.
На днях видел пару красавцев-лебедей, первых предвестников нашей весны, они пролетали над вечереющим лесом, над впадинами между гор, над темными горизонтами, и их белоснежное одеяние было чудесное на фоне темнеющего неба, а гортанный крик долго оставался в памяти
<...>
5 мая 1939 г.
<...> У нас совершенная зима. Второй день глубокий снегопад, вьюжит так, что скорее похоже на декабрь месяц, чем на май. Но мы к капризам нашей северной природы привыкли и смотрим на это привычными глазами.
Работаю я по специальности. Пишу картинки. Все это очень меня удивляет, так как давно забыл об этом думать. Буду писать довольно сложные вещи. Это очень облегчает мое состояние. Во всяком случае, появился некий интерес к жизни. Рисую часто и довольно много. Собственно, рисунок я никогда не покидал. И в области портрета я, пожалуй, не отстал, а, наоборот, подвинулся вперед <...>
29 мая 1939 г.
Проходят дни за днями, так что с трудом узнаешь наступающий день, однообразие поразительное и безмерное, временами кажется, что и жизни другой нет и что жить иначе невозможно. Прошлое завуалировалось, сжалось и только небольшое количество виданного и пережитого выпукло осталось в памяти. Детство и юность с ее массой мелочей, толкотни и безрассудства ярко и светло в памяти. Я часто думаю о том, что совершенно не зря ты так относишься к детям и так любишь и ценишь эту детскую непосредственность. Их мышление и их наивность граничат с гениальностью. Вот эти ощущения жизни и нужно сохранить. Без этого нет художника и нет того волнующего образа в искусстве, который вызван особым сохранением этого непонятного для взрослого чувства, а это чувство постепенно покидает нас, и мы одновременно теряем то, что одним разумом не заменишь. И природа этого чувства неповторима.
Сегодня я писал один пейзаж, и, когда я тронул зелень тонкую и нежную, выбивающуюся из-под сетки ветвей, на фоне светлого неба, я живо вспомнил то ощущение, которое я испытывал в детстве, когда просто воспринимаешь весну и когда в душу вливается та необъяснимая прелесть жизни, радость бытия, – я, конечно, без волнения не мог писать это место, и старик, киевский художник, сразу понял это, долго смотрел и хвалил его.
За окном идет мелкий, весенний дождик. Вид из окна стал еще печальнее. Серо-молочной дымкой покрылась поверхность воды озера, и прозрачно-серыми стали дали лесов у горизонта. Промчался вдали поезд, и на душе стало еще тоскливее и еще больнее... Свет пасмурный. В комнате полумрак, на душе сыро. Думаю о завтрашней работе. Буду заканчивать свой пейзаж. Пишу я сейчас иначе, чем писал последнее время. Поверхность вещи тонкая с маленькими загрузками красок. Крепко ищу правильного тона и правильных отношений. Не тороплюсь, так как спешить некуда, получая в этом не только духовное, но и чисто физическое наслаждение. И тем не менее вещи по цвету очень светлые и радостные. В Карелии есть замечательные места, совершенно особые по красоте. Их никто никогда не писал. Здесь совершенно особое небо, а вечерние зори нечто совершенно исключительное. Но описать их невозможно. Это преимущество Севера, так что, вспоминая наши закаты, последние кажутся просто открытками.
Пейзаж здесь строгий по настроению, величествен по содержанию и молчалив. Я знаю, что ты была бы в восторге, но об этом потом. Возможность работать дает силы и смысл – это самое главное.
7 сентября 1939 г.
<...> Написать хочется или просто в уме решить какую-то вещь. Жизнерадостную, ясную и какую-то счастливую... Свободную по живописи, с небом, деревьями, людьми, животными. Словом, что-то полнокровное. Но когда в своих маленьких этюдах подхожу к природе, она выходит грустная и тоскливая и даже лиричность утр и вечеров обращается в какую-то заунывную, животную жалость. А чаще всего бросаешь такой этюд незаконченным, и интерес к нему отпадает в самом процессе письма.
Таким образом, ты можешь представить себе мое состояние. Вообще же, я работаю ковры. Заканчиваю один, принимаюсь за другой. Все же это декоративное что-то и, конечно, интереснее копий с печатных репродукций.
Письмо твое с описанием посмертной выставки Ф.В. Белоусова[5] заставило меня многое вспомнить. Его незатейливую жизнь, несчастный брак, болезненную любовь к сыну и неудачную попытку стать художником. Много лет мы жили с ним рядом, оставаясь постоянно и неизменно чужими друг другу людьми. Но человеческое берет верх, и он становится понятным, и его жалко и жалко до боли... Это уже не первая смерть моих сверстников (хотя он был несколько старше меня). И каждая смерть напоминает мне о том, что и у меня она тоже не за горами...
7 октября 1939 г.
Волны бьются о берега. Стоит какой-то беспрерывный шум над водой. Кажется, что вот-вот и волна с грохотом прорвется и затопит берег. Массив воды тяжелый, чугунный и только местами, пробиваясь белой пеной, рассыпается мгновенно и беззвучно. Преображаясь, водное пространство становится совершенно особенным и неповторимым. Ветер с неописуемым озверением рвет все на пути. На переднем плане огромные камни, как изваяния каких-то допотопных животных, омываемых разбушевавшейся водой. Как здесь быстро меняется пейзаж. Еще час тому назад падал мелкий снег и была какая-то безразличная тишина и скучный пейзаж час тому назад становился героической симфонией, с огромным подъемом выполняемой невероятными музыкантами. Значит, нет ни красивых и некрасивых вещей, как в природе, так и в человеке. Значит, все зависит от момента. Безобразие может стать прекрасным и наоборот. Суровость нашей природы совершенно исключительная: кусок неба, вода, камни, одинокие деревья, вот постоянный лейтмотив для вещей. И наряду с этим бесконечное разнообразие и такие колористические возможности, что описать невозможно. Дни стали короткими, ночи длинные и нудные.
Я ставлю перед собой задачу во что бы то ни стало написать настоящую вещь, а может быть даже серию карельских мотивов. Это: озера, лес, туманы и небо, исключительное карельское небо. Пока пишу маленькие вещи, этюды с натуры. Для вещи, конечно, нужны фигуры и интересная по идее мысль. Это все, что занимает меня сейчас. Благодаря этим копиям и пр. я забросил поверхность вещей, это скверно, и я за это возьмусь и себя выправлю.
Да, кстати, работая столько времени, я не подозревал, что грунтовать нужно по-другому, чем мы это делаем. Об этом мне рассказал один иконописец. Они грунтуют холст не кистью, а плоской фанерной дощечкой, величиной с четверть метра и шириной с ладонь. Причем она должна быть овалообразная, это позволяет очень хорошо втирать грунт в холст. Конечно, дощечка должна быть идеально отшлифованная. Для временных работ ты кладешь вначале один клейстер по холсту, даешь ему высохнуть., а затем берешь любую охру или дешевые белила с примесью мела, все это жидко разбавляется олифой и покрывается этой дощечкой. Все это очень быстро сохнет, и в работе хорошо...
18 октября 1939 г.
<...> Меня сейчас трудно узнать, так как я стал значительно сдержаннее в живописи, а главное, здесь нет места моим постоянным экспериментальным работам в живописи. С другой стороны, это скверно, так как без этого будешь топтаться на месте...
Я должен написать много вещей. У меня скопилось столько мыслей. Я представляю себе вещи совершенно иными, чем я писал. Я думаю о каких-то органических вещах со сложной оркестровкой и очень-очень проработанных. Очень сложных по фактуре и цвету. Но, в сущности, они представляются мне ближе к монохромам, чем к хроматическим решениям. Но это все мечты...
27 октября 1939 г.
<...> Почему я так часто пишу тебе об искусстве? Это именно потому, что ни одна область деятельности человека не может заменить ему того состояния перевоплощения, и того особого перевоплощения, и того особого нагрева мысли и воображения, как искусство. И им нужно заниматься с той душевной чистотой, которая может быть только у человека глубоко страдающего, а следовательно – правильно чувствующего человека... Вот почему я так хочу, чтобы ты писала вещи для себя, вкладывая в них то ценное и цельное, что скапливается в минуты больших и настоящих человеческих переживаний. Это и будут настоящие вещи. И ценность их неизмерима обычными мерками профессиональных работников искусства.
У нас уже стоит зима. Побелел наш унылый пейзаж. И только мрачной, траурной лентой вьются свинцовые очертания озер, а по вечерам на фоне угасающего неба – одиноко пролетает черный ворон <...>.
5 ноября 1939 г.
<...> Безразличие и нескончаемое однообразие так внедрилось в мозг, душу и тело, что порой кажется, что иной жизни и нет. Стараюсь быть все же возможно уравновешенным, спокойным и не терять ту силу духа, без чего немыслима жизнь. Но и это не всегда удается, и бывают моменты очень тяжелых переживаний. Передо мной однотомник Пушкина. Второй день он перед моими глазами. Я бегло пересмотрел его и не могу читать. Может быть это очень хорошо, но сейчас это мне не нужно. Я ясно вижу много пустот, это меня раздражает. Хочется очень содержательной в духовном смысле слова вещи. Хочется книги, способной глубоко занять меня, что-то передумать, что-то понять...
14 ноября 1939 г.
<...> Хочу начать одну интересную работу по вечерам. Это иллюстрации к «Пиковой даме». Хочу ее сделать совершенно по-особенному, так как весь план этой вещи я пересмотрел, и эта вещь мне представилась совершенно по-иному. Образ Германа, старой графини, стиль эпохи, азарт смешивается с огромной страстностью Германа, а лейтмотив – это какой-то кошмар.
Я перечитал всего Пушкина. Это была единственная у меня книга. Я ее перечитал совершенно спокойно, не пережив ничего нового, и только одна вещь совершенно по-новому прозвучала – это «Пиковая дама»...
11 декабря 1939 г.
<...> Об одном хотел написать тебе, это вот что. Ты часто пишешь о какой-то неуверенности твоей в своих силах, в своей работе. Это нужно бросить, нужно по-взрослому подходить к вещам. Увереннее и тверже, тогда и твои вещи будут смотреться увереннее. Всякие колебания и неустойчивость, так свойственные нам, в нашем искусстве – губительны и не нужны. Живем мы один раз, и ни одна минута в нашей жизни неповторима. Нужно любить жизнь в любых формах, ибо во всем есть свой совершеннейший интерес. Художник должен быть внимательным и копить все, как скряга, собирая все кропотно и последовательно для своих вещей (творческих) <...>.
17 декабря 1939 г.
Эти дни все собирался написать тебе письмо и все откладывал. Заела такая невыносимая тоска и, вообще, на душе было тягостно. Но нужно держать себя в руках, нужно сохранить себя. Сейчас я работаю портреты с натуры и должен признаться тебе, что в этой области достиг многого. Такой работы у меня много и она меня все же занимает. Я пишу сразу красками, это удобнее. Если я так буду дальше работать, то могу придти к очень серьезным портретным решениям. Во всяком случае, я нащупываю что-то новое в этом жанре.
Здесь многим чуждо как раз то, чего я добиваюсь, так как везде ограничиваются только одним фотографическим или натуралистическим сходством. Но так как я стал достигать совершенного сходства, даже спорный подход становится приемлемым.
Я работаю над анатомией Дюваля, и советую тебе этим заняться. Вещь необходимая. Снова об одном: рисуй и рисуй. Ты себе представить не можешь, как это важно.
30 декабря 1939 г.
<...> Завтра встреча Нового года. Это озадачивает. Что принесет Новый год? Может, и он механически будет отсчитан в тяжелом списке последних лет. А может быть, он принесет мне необходимые облегчения и некоторую радость? Не хочется думать о том, что прожито. Хочется закрыться и мечтать о какой-то иной жизни. Почему я не старею в своих чувствах и переживаниях? Почему до сих пор юная порывистость, жадность к жизни не оставляет меня? В этом есть что-то, болезненно острое...
Да, друг мой! Годы проходят, оставляя неизгладимый след, ложась тяжелой ношей на сердце, увеличивая седину головы, а морщины лица становятся глубже и сосредоточеннее. Я это наблюдал на других. И на лицах других, как в зеркале, вижу себя. Жить надеждами, мечтами и чаяниями стало чем-то органическим. Прошлое кажется чем-то запутанным и сложным, а будущее туманным и неясным. Строить какие-то планы тоже нелепо. Может быть, нужно плыть подобно песчинке, брошенной на дно океана <...>.
2 марта 1940 г.
<...> Сегодня у нас был совершенно весенний день, полная оттепель. И совершенно замечательна наша бедная северная природа в моменты приближения очень длительной и неуравновешенной весны. Сегодня наблюдал интересный по живописи мотив. Запряженную лошаденку, совсем линялую и какую-то пегую, около очень большого камня, на фоне золотистого сарая. Все это освещено было розовыми лучами вечернего солнца. Мотив совершенно исключительный, так как весь дальний план – это озеро с бугром, покрытым лесом. Весь вид в целом такой мягкий по тону и такой тонкий по отношениям, в силу какой-то совершенно особенной карельской природы, ее туманности и ей одной присущей мягкости.
Но писать еще рано, так как еще очень зябко, а с этюдом просидеть нужно все же пару часов. Пишу, конечно, много и пишу очень реалистично, так как отходить от натуры сейчас мне нельзя. Я так от всего отстал, что всякое отклонение от натуры и бесконтрольная работа может привести к большим неприятностям. Курс, взятый мною, – это только изучение натуры и желание возможно ближе подойти к ней. Конечно, стараюсь не терять живописной основы в вещи, но и это, в конце концов, становится не главным. А главным становится логика, продиктованная натурой.
Стараюсь писать подробно, но, конечно, не сводить к беспринципному натурализму, что мне никогда не было свойственно. На сегодняшний день думаю о Курбе, Милле, но все это больше в головном смысле, душевно что-то другое...
Условия для работы сейчас удовлетворительные, материалы есть, а это самое главное. Мой приятель написал на днях письмо своей жене, которое прочел мне, где он пишет ей довольно откровенно о том, что он ей предлагает устроить свою жизнь независимо от него. Письмо написано с болью, и читается тяжело. Он как-то очень последовательно доказывает ей, что дальнейшая жизнь их немыслима. На меня это произвело тяжелое впечатление, и я, конечно, должен был подумать и о своей жизни, и мне стало не по себе <...>.
З.Н. ЮСТИЦКОЙ
5 апреля 1940 г.
<...> Я часто задумываюсь и удивляюсь, как жизнь изменяет людей, и с недопустимым воображением стараюсь нарисовать себе каждую из вас, изменившуюся и какую-то самостоятельную. Но во всем мне мешают образы вас, те старые, которые живы в моем мозгу и которые назойливо напоминают мне вас маленькими, почти детьми, доверчивыми и мало к жизни приспособленными. Да, теперь вы другие. И многое, очень многое я отдал бы за то, чтобы увидеть вас. Сейчас ночь, темнотой наполнилось все кругом, густейшая темнота плывет вокруг меня, в комнате тишина, и я думаю, что не слишком ли тихо для меня, я напрягаю слух, я хочу уловить шорох жизни, живой ее звук. Я хочу видеть вас сейчас живыми, реальными, а не силиться больным и искаженным воображением, представить себе, где и как вы и что с вами сейчас. На себя и на все связанное со мной смотрю второстепенно. Прошлое, дом, вы детьми как-то слились воедино, все наполнилось чем-то значительным и хорошим, и при воспоминаниях щемит и жалит сердце. Как бы я хотел материально помочь вам, но как и чем? Я жду для себя изменений в лучшую сторону, от этого будет многое зависеть, во всяком случае, это стало уже реальным, и укрепляет мои оставшиеся надежды на изменение и моей жизни....
Г.А. АНИСИМОВОЙ
7 июня 1940 г.
<...> Сегодня пишу тебе с нового места. Вчера я тебе написал открытку с адресом <...>. Сейчас я на Медгоре работаю по специальности в мастерской. Условия работы значительно лучше, чем предыдущие. Материалами совершенно обеспечен (и высылать мне ничего не нужно). Работаю в культурных условиях. Пишу главным образом копии. Пока еще осваиваюсь и на днях напишу тебе более подробное письмо. Здесь я видел очень красивые пейзажи Карелии. С такими чудесными переливами красок, о которых писать трудно. Дни стоят серые, холодные, на душе стало тише и яснее...
Я отправил тебе дополнительную жалобу прокурору. Это очень важно. Мне это составил юрист. Во всяком случае, нужно хлопотать и не бояться неудач, так как я знаю многих, которым было отказано, и все же в конце концов их дело было пересмотрено и решено в их пользу. У меня предчувствие, что дело должно быть в конце концов пересмотрено, и самое естественное, что срок может быть значительно сокращен, но это все дело будущего <...>.
12 июня 1940 г.
<...> Условия, в которых я нахожусь, несравненно лучше предыдущих. Работы очень много, главное копии. Но я, к моему счастью, делаю вещи с хороших образцов: это Руссо, Добиньи и пр. Кроме того, пишу пейзажи, собственно это ширпотреб. Требование к ним относительно строгое, смонтированы они отлично. С материалами у нас благополучно, с кистями также. Чувствую я себя не плохо. Начал осваиваться.
Проезжая, я видел замечательные пейзажи в Карелии. Как странно, что у нас совершенно не отражен Север в живописи, в то время как он столь живописен, что описать трудно в беглом письме. Здесь и архитектура какая-то особенная. О небе, конечно, говорить нельзя, ибо ничего более чарующего я не видел. В эти холодные дни июня, дни, когда выпал снег и было холодно, как поздней осенью. Серебристо-серое небо затученное, напоминало вещи Сальватора Розы, но по насыщенности тона это было что-то еще драматичнее.
Мастерская хорошая. Хорошо оборудованная и есть культурные художники. Когда работаешь по живописи, то и время проходит как-то быстрее...
28 июня 1940 г.
<...> Пишу сейчас я самые разнообразные вещи, от простого ширпотреба до заказных вещей. Нужны мне мелкие щетиновые кисти самого мелкого размера. Как я пишу? Конечно, я изменился, да это и не может быть иначе. Вещи строже и, конечно, ближе к натуре (особенно портреты). Портрет я пишу как раз сейчас очень интересный. Портретов я писал много, и ты вряд ли бы меня узнала в них (конечно, при длительном осмотре, ты бы угадала в них меня). Но все же внешне это нечто совершенно другое. Во-первых, тон у меня стал иным, очень сложным в смесях, так я раньше не писал (ближе к моим темным вещам), но реалистичнее в подлинном смысле этого слова. Но, конечно, экспериментировать я не имею возможности, и приходится ограничиваться жесткими сроками...
Я спокойно смотрю вперед, и меня мало огорчает твое сообщение об отказе прокурора в моей просьбе. Я к этому привык и не очень близко принимаю это к сердцу. Но, тем не менее, я считаю, что нужно обратиться в высшую инстанцию, вплоть до Наркома Юстиции. Я знаю, что если бы мое дело было пересмотрено в моем присутствии – оно было бы прекращено. В свою очередь, я буду писать жалобу и очень обстоятельно. Погода у нас стоит жаркая. Совершенно установилось лето. В мастерской нестерпимая жара. Но ночи прекрасные и прохладные. Ночи белые. Ты их не представляешь, и о них нужно написать самостоятельно...
6 октября 1940 г.
<...> Я сейчас стал спокойным, и моему терпению можно позавидовать. Сегодня выходной день, и я имею возможность спокойно написать тебе, но жаль, что писать не о чем, так однообразно идет моя жизнь. Механика ее очень проста. Систематическое отсчитывание пройденных дней, уходящих в какую-то страшную бездну. Вот и все.
Я читаю сейчас Рамена Роллана. Статьи о современных музыкантах.
Это очень и очень интересная книга. Она шире своего названия. <...> Когда я читал о Моцарте, я был потрясен его жизнерадостностью, которая шла через всю его жизнь, несмотря на те тяжелые и мучительные годы, которые непрерывно сопровождали его короткую жизнь. Как разнообразен путь творческой личности. Я хотел поделиться с тобой об одном художнике. Это о Константине Маковском. Я его плохо смотрел и совершенно равнодушен был к нему. Но мне пришлось работать над одной его вещью, и был совершенно поражен огромностью его дарования. Это какой-то Тьеполо! Я советую тебе специально сходить и посмотреть его. Под несколько чужой нам внешностью кроется огромный талант. Вчера я смотрел хорошую репродукцию с Клода Моне. Вещь воспроизведена средне, но все же дает возможность судить об оригинале. Она написана 70 лет тому назад, но так современна, что просто поражаешься (я под современностью разумею непрекращающийся интерес к художественному произведению).
Бываешь ли ты в музеях? Помни слова Ренуара и никогда не забывай: «Искусству учатся в музеях». Я часто думаю о том, что должно настать время, когда мы будем работать снова вместе. Время идет, а сделано так мало. Но я твердо знаю, что художник не уйдет из жизни, прежде чем не выполнит наложенного на него. Так это всегда было. Так смерть застала столетнего Тициана у мольберта, так она прекращала жизнь молодых дарований, ее законы неумолимы. Искусство вечно. Его роль значительно выше наших представлений о нем <...>.
Осень унылая, мокрая, лес рано пожелтел, и как-то стало сиротливо и одиноко. И все-таки я признаюсь, что чувствовать и творить могу только осенью. Она таит в себе что-то так глубоко меня волнующее, и у меня есть всегда с ней какие-то созвучия...
Я преисполнен творческими замыслами. Как хочется выйти из своей физической скорлупы, со всеми ее условностями, написать что-то значительное и необходимое. Значит, для меня это время не настало...
11 октября 1940 г.
<...> Сегодня совершенно осенний день, серый и мокрый. Нудно и грустно. Я перечитываю страницы из трагедии Шекспира. Передо мной мелькают образы Гамлета, Лира, Макбета. Эти огромные страсти, созданные гениальным умом в соединении с богатейшей фантазией. Вот образы истинного искусства. Я читаю по-особому, чтение в моих условиях – роскошь. Я читаю каждую страничку, вникаю в ее смысл, часто возвращаюсь назад, снова перечитываю. Я получаю истинное наслаждение. Я расту, когда читаю. Я бы сейчас с упоением прочитал бы старых гуманистов XVI века и в частности Эразма Роттердамского. Я только здесь понял, как нужно читать, чтобы получить все, что может дать книга. У меня какой-то сумбур в голове, и вся масса мною прочитанного в свое время как-то перемешалась, и мне трудно (даже при моей памяти) восстановить хоть небольшую часть всего, что так нужно. Я тебе в прошлом письме писал, чтобы ты прочитала Ромена Роллана «Музыканты наших дней», там ты найдешь мысли, идущие далеко за пределы наших представлений о музыке и искусстве, в частности. Для нас, плохо знающих музыку, это особенно важно. Я люблю музыку, люблю ее слушать, но это еще мало. Ее глубочайший смысл, который нам открыт в других искусствах, нами не изведан, а это так важно в общем понимании искусства. И это меня гнетет. А личности людей, создавших искусство, потрясающе выразительны: Берлиоз, Вагнер, Сен-Санс, Штраус... Вообще, почитай. Я, кажется, давал тебе в свое время Роллана «Бетховен». Помнишь ли эту книгу?
Я много работаю по специальности, об этом я тебе писал. Пишу я свободно в смысле техники. Но ведь 10 часов в день – это что-нибудь да значит... Сейчас вечереет, на сером огромном пространстве неба мелькает силуэт какой-то птицы. Как она вторит моим мыслям...
14 октября 1940 г.
<...> Эту осень я как-то болезненно переживал, в ней было что-то столь тоскливое, а эти постоянные ветры так тяжело действуют на воображение и так гнетущи. Это время я был болен, был ли это грипп! Это трудно сказать. Головные боли сочетались с удручающим настроением. Вечный озноб и какие-то тяжелые предчувствия. Страшное одиночество. Все это свило целое гнездо в моем сознании...
Вечные сны, которые проходят какими-то циклами. Я страшно устал от всего. Сам себе я как-то в тягость. Я работаю с каким-то невероятным упорством, со страшной детализацией, усложняя и углубляя часто простую задачу. Барбизонцы мои единственные друзья, я работаю их с нескрываемым увлечением. Я вспоминаю их технику, их приемы, их поразительное отношение к картине. Это так увлекательно, когда все же добиваешься почувствовать их существо. Но Сезанн! Что бы я ни делал, этот мастер постоянно присутствует в моих вещах. Это что-то органическое и даже тогда, когда я пишу вещи, где и в помине нет сезаннизма, он все же где-то проскальзывает. Это печать французской школы. В барбизонцах он не мешает, он сживается с Курбэ, и в этом есть какая-то цельная линия. В копиях не нужна индивидуальность, а она прет из каждой щели... Но и на любую копию можно смотреть с определенных задач, тогда это интересно.
Я рад, что ты занята делом, пишешь и растешь. Я хочу тебя видеть зрелым художником со своим лицом. И это может сделать только работа, работа над собой упорная и часто, если не всегда, мучительная. Радость творчества бывает сдобрена таким количеством горечи и таким непониманием среды, в которой живешь и для которой работаешь. Это очень сложный и тяжелый вопрос, о котором нужно говорить особо...
Я читаю Шекспира и у меня про запас «Дон Кихот», книга, которую я читал почти в детстве, но я испытываю наслаждение вперед, думая о Сервантесе, чья судьба исключительно интересна...
17 ноября 1940 г.
<...> Я очень недоволен, что ты иногда говоришь обо мне с людьми, у которых свое представление об искусстве. Объяснить искусство нельзя. Его надо чувствовать. А для того, чтобы чувствовать, – нужны особые качества... По своей натуре я романтик, ты это, конечно, знаешь, и тебе должно быть совсем понятно тяготение мое к образам иного порядка в живописи. Ты, наверно, помнишь мою персональную выставку[6], имевшую большее значение для меня, чем любая экспозиция на любой выставке моих вещей. Там, как нигде, я был предоставлен себе. Это как-то прервалось, я стал экспериментировать, но именно для того, чтобы снова вернуться к вещам того порядка.
Если бы я был свободен, я бы зарабатывал сейчас огромно. Но не деньги моя цель в жизни, я их и так имел и цену им не очень большую отдаю в своей жизни. Как видишь, не в них счастье! Тебе это известно больше других.
Погода у нас стоит совершенно весенняя. Снег тает, появились проталины, зачернела земля, повеял легкий весенний ветер. Сейчас хорошо на Волге, наверное, идет гусь, и в природе та удивительная строгость, за что я так люблю последние дни осени, с ажуром деревьев и с синевой уходящих далей.
Я преисполнен мыслями и массой художественных образов. Я подавлен силой своего воображения. Это должно вылиться в большой художественный подъем. Да, об этом можно только мечтать. Я все силы кладу на то, чтобы сохранить свое здоровье... Но нового сердца не поставишь и не восстановишь нервную систему. Но хотя бы задержать ее прогрессивное движение вперед <...>.
3 декабря 1940 г.
<...> Вчера после получения твоего письма я слушал Бетховена. Его страдания сделали его музыку несравненной ни с чем. Высота его мыслей и чувств не превзойдена никем. И, пожалуй, ни в одной области. Я испытываю огромный подъем, слушая его. Вот тебе налицо пустота разговора о технике. Нет, без напряженного нутра, без идей и мыслей нет искусства.
Для искусства нужна большая личность. Бетховены, Ван-Гоги, Микеланджелы. Грандиозные личности-гиганты. И мы бываем в первую очередь потрясены их совершенно особым мироощущением или, вернее, жизнеощущением. Здесь воедино смешиваются радости и страдания бытия в их беспредельном движении. Может быть, ни у кого так не ясно это, как у старика олимпийца Гете. Я соскучился по хорошим образцам искусства. Я бы много отдал, чтобы посмотреть искусство северной готики. Меня тянет к высоте, этой гармонической строгости. Как хорошо, что природа человека создала искусство. Эту великую ложь радости бытия...
11 декабря 1940 г.
<...> Ты пишешь о том, что тебе мешает отсутствие натуры. Я думаю, что в этом ты не совсем права. Нужно натуру изучать, нужно ее знать, как ее знали старики, т. е. вечно или постоянно ее наблюдать. Но совершенно не обязательно списывать ее. Это только связывает художника.
Я тебе уже писал и повторяю, что между написанием картины (Эль Греко, Энгр, Мане, Гоген, Ван-Гог) и описанием натуры большая и существенная разница. Нужно пользоваться натурой, подчиняя ее художественному замыслу. Я тебе часто пишу о музыке потому, что нигде так не ясны, как в ней, сила настроения и сила воображения. Лучшие картины в мире созданы подъемом воображения, высотой чувств и мыслей, а натура – только средство к достижению ее. Возьми реализм Курбе, его «Похороны в Орнане». Там весь реализм в этой вещи подчинен его идее. Я был потрясен в свое время, когда увидел эту вещь.
Через мои руки проходят много воспроизведений, и как часто с тоской видишь, как искусство способного человека неубедительно, благодаря непониманию значения того, что он делает. Как хочется большого, человеческого искусства, способного осчастливить и облагородить людей <...>
16 декабря 1940 г.
<...> Ах, если бы ты могла понять, как тяжело быть одному, как тяжело видеть около себя все чуждое, чувствовать, что ты один, никем не понимаемый и не нужный. Силы тают от таких мыслей. Сколько было надежд, кипучих мыслей, подъемов, вдохновенных – не часов, а месяцев, даже лет. Как сколачивался образ, какой вереницей рождались мысли о вещах. Огромные композиции теснят голову, загораживая одна другую. Во сне я пишу какие-то огромные картины, светлые и ясные, как в раннем Ренессансе, фигуры, сплетаясь, летят в воздухе на фоне прекрасного утра, свободные и гордые. Я часто думаю о Микеланджело, о Бетховене. Они и только они близки мне сейчас. Я должен написать свой триптих. Ты его помнишь. Я о нем думаю и сейчас. Это Бетховен, Микеланджело и Рафаэль. О нем я думаю, как о самой жизни, весенней, молодой и нежной, очищенной от теней. В то время как в первых двух тени загораживают их величественные фигуры. Я тебе пишу, а мне как-то внутри холодно, будто бы я сижу на камне и все кругом холодное, каменное, и я вспоминаю старую арабскую сказку.
У меня на руках маленькая кошечка, это мой новый друг, ласковая и нежная. У нее болел глаз, сейчас ей лучше, вчера я принес ее из мастерской, а то там ей было холодно, т. к. в выходной день не топят мастерскую, а у меня под одеялом ей будет тепло. Как божественно старые китайцы рисовали кошек! <...>.
21 мая 1941 г.
<...> Твои успехи меня радуют, я горд за тебя, так как и в них я какую-то играл роль. Но не в этом главное. Главное – это то человеческое начало, которым проникнута вся твоя тонкая и чувствующая натура.
Те эскизы, о которых ты мне пишешь, сделаны были мною для предполагаемых вещей. Я их берег для тебя. Мне хотелось в страстных композициях сильных и прекрасных животных сочетать с началом вечной женственности, т. е. сочетание нежности со стихией на фоне вечной природы. В первой композиции «Утро», с переливами светлых розовых тонов, со спокойными животными на фоне счастливого наступающего дня. 2-я композиция – «День», я хотел дать солнечным, сильным и бодрым. 3-й эскиз ты имеешь у себя, это «Вечер». И 4-й эскиз – это симфония черных и синих тонов, пронизанных белыми очертаниями. Это должна была быть наиболее сильная и страстная композиция черных фигур с белыми конями на фоне глубокой ночи, бурной и романтичной. Когда-нибудь я напишу эти вещи по этим эскизам. Но я чувствую, что ты их поняла без моих ненужных объяснений. Во всяком случае, живопись их должна быть бурной и насыщенной темпераментом, и все четыре композиции в целом должны быть музыкальны и романтичны. Трудно писать о том, что исполняется красками, слова здесь слабы и маловыразительны. Рисуй больше для себя, учись творчески воспринимать мир, через призму своих переживаний. Такое искусство будет жить вечно, нужно, чтобы оно было органическим <...>
12 ноября 1942 г.
Получил от тебя письмо, за которое очень благодарю. Рад, что ты относительно устроена. Ты живешь в хорошем культурном окружении. Это большое дело <...>. Я это особенно оценил после того, как оказался совершенно в иных условиях. Настроение у меня среднее. С утра работа, к вечеру обед и сон и так далее... Дни проходят однообразно и безразлично, без переживаний и как-то механически. Ничего не волнует, ничего не трогает до конца. Природа архангельская мне мало нравится. Она однообразна и скупа и конечно значительно хуже Карелии, где как-то всегда присутствовала поэтическая нотка. Это просто обычный, серый север. Когда я ехал в прошлом году, он мне как-то обещал значительно больше...
26 августа 1944 г.
<...> Лето прошло незаметно. Не было теплых дней. Сейчас в природе появились осенние мотивы, которые я так люблю. Писать мне о себе как-то не хочется, я себе как-то надоел, это нужно пережить, чтобы понять это чувство. Мысли о новой жизни, осмысленной и свободной, не дают мне покоя. Я сильно изменился и внутренне, и внешне.
Работаю я много, и в техническом отношении достиг многого. Но творческой жизнью не живу и как-то о ней не думаю. Таким я себя никогда не помнил. Я сейчас привык жить маленькими человеческими радостями. Это заполняет мою однообразную жизнь. Но больше всего мне хочется спокойной, сознательной жизни. «Философия» моей жизни проста: я встаю, ем, работаю, сплю. Прошлое постепенно выветривается, и обнажается какая-то пустота. С одиночеством я свыкся. В людях я мало нуждаюсь. Вот видишь, как много я написал о себе, а хотелось об этом совсем не говорить...
14 января 1945 г.
Годы не проходят бесследно. Я тоже изменился очень, но как-то больше внутри себя. Во внешней жизни я стал совершенно другим, чем был. Жить я могу сейчас очень просто. Потребности стали ограничены. Довольствуюсь самым минимальным и чувствую себя от этого нисколько не хуже. Здоровья мое стало хуже, стал быстро уставать, особенно зрение. Работать приходится очень много, да это и лучше, скорей проходит время. Впереди что-то смутно вырисовывается <...>. Возможно, что и в дальнейшем придется жить на Севере. К Северу я привык, и он меня не страшит. Но больше всего мне хочется жить в России, где-то на Волге. Об этом я мечтаю где-то в тайниках души. Как живешь ты, что делаешь, как предполагаешь жить дальше?..
31 января 1946 г.
<...> Что писать о себе! Все по-старому, кроме мысли о том, что на носу февраль и последняя зима в этих условиях. Я тебе писал о том, что я имею 6 месяцев скидки. Это, оказывается, очень много. Это официально и оформлено. Одет я дурно... Нужно о многом озаботиться. Где буду жить – сейчас сказать трудно. До осени времени много. Пиши о себе. Я тебе напишу подробное письмо, как вернешься из Саратова <...>.
10 апреля 1946 г.
<...> Я получил от тебя только что письмо. Написать тебе нужно о многом. Во-первых, осенью я буду свободен, но какие будут ограничения, не знаю. Где буду жить, тоже не знаю. Я очень поистрепался и как-то об этом не думаю, а следовало бы и об этом подумать. Деньги кое-какие есть, но все это пустяки сравнительно с предстоящими расходами.
Я как-то надеюсь, что все само собой уладится. Времени еще много впереди, и предположения всяческие могут быть ошибочны. Самое главное – это здоровье, пока оно еще теплится в грешном теле, а это самое главное. Интересно, что я как-то стал просыпаться, в мыслях появились какие-то идеи к вещам. Я тепло думаю о живописи и представляю себе ее громадную потенциальность <...>.
2 сентября 1946 г.
<...> Настроение какое-то странное, глупо приподнятое и несколько нервное. В общем, с конца октября я свободен. Передо мной сейчас Шишкин «Корабельная роща», которую я копирую в сотый раз. Какая-то ирония...
Проезжая Москву, пробуду там несколько дней, посмотрю музеи (очень соскучился о хороших вещах) <...>.
9 октября 1946 г.
<...> Я получил твое большое письмо и открытку. И на твое письмо уже ответил. Спасибо тебе за заботы обо мне. Свободен я буду 21-го октября. Если все будет благополучно, то заеду в Москву, а затем в Саратов.
[2] К роману Эмиля Золя «Деньги».
[3] Сергей Александрович Шаховской (1892–1926) – саратовский скульптор.
[4] О пересмотре его дела.
[5] Федор Васильевич Белоусов (1885– 1939) – саратовский художник.
[6] Выставка 1923 года в Саратовском Радищевском музее.
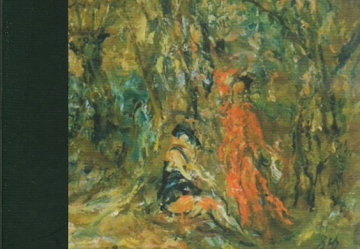
А.Т. Симонова
Художник Валентин Юстицкий
Посвящается Анне Валентиновне Юстицкой, дочери художника
.jpg)
Валентин Михайлович Юстицкий (1892-1951) родился в Петербурге в семье присяжного поверенного Михаила Антоновича и Марии Феофановны Юстицких. У них было двое сыновей и две дочери. Все дети получили хорошее образование, Валентин окончил Пажеский корпус. Увлекшись живописью, учится в студии Я.С. Гольдблата в Петербурге, затем в Вильно в школе живописи и рисования Н.П. Трутнева. В 1913-1914 годах берет уроки скульптуры в Париже. Это был период так называемой «второй волны» паломничества русских художников в Париж. Там Юстицкий вполне мог познакомиться с Л. Поповой, А. Экстер, В. Татлиным, с которыми по возвращении в 1915 году в Россию участвовал на московских выставках.
Молодой художник воспринял самые разнообразные концепции современного ему искусства. Об этом можно судить по каталогам выставок, так как его ранние произведения практически не сохранились. В 1916 году работы Юстицкого можно было увидеть на футуристических выставках «Магазин»[1]. Правда, наряду с контррельефами В. Татлина, живописно-пластическими архитектониками Л. Поповой, кубофутуристическими композициями К. Малевича и И. Клюна, «Портрет художника Крастина» Юстицкого относился к числу реалистического меньшинства представленных здесь работ. Но на выставке салона «Единорог» этого же года кроме портретов, пейзажей и натюрмортов реалистической направленности также упоминаются «Футуристический лубок» и «Рельеф» художника. И все же доминируют первые. Не случайно критики тех лет недоумевали, почему Юстицкого относят к футуристам.
Под понятием «футуризм» вообще подразумевались самые разнообразные направления, ничего общего не имеющие с классическим футуризмом. Недаром В. Маяковский в открытом письме к А. Луначарскому, который утверждал, что футуристы все похожи друг на друга и что футуристические украшения революционных праздников вызывают пролетарский ропот, полемизирует с ним: «Где вы видели в России живопись футуристов? Вы назвали Пикассо и Татлина. Пикассо – кубист. Татлин – контррельефист. Очевидно, под футуризмом вы объединяете все так называемое левое искусство»[2].
В. Юстицкий тоже не был футуристом. Безусловно, борьба различных художественных направлений захватила и его, подтверждением чему является серия гуашей 1916 года под условным названием «Рыбаки». Ни один из этих листов не фигурирует на выставках того времени. Но все они подписаны автором, и на двух из них проставлена дата.
Серия «Рыбаки» насчитывает 30 листов, и каждый из них подобен музыкальной ноте. Они рождают неповторимую мелодию, одновременно возвышенную и приземленную, трагическую и светлую, ибо серия объединена не единством развивающегося сюжета, а утверждением вечного смысла бытия и ценностей, связанных с простыми человеческими делами. Одни ставят сосуды на стол, другие несут сети, корзины с рыбой, хлебы. Внешне простой набор элементов получает в каждом листе новую силу выражения, и серия в целом демонстрирует сложность и богатство пластического и ритмического восприятия автора.
Возникают и другие ассоциации. Возможно, изображены не простые крестьяне-рыбаки, а апостолы-рыбаки, рыбы – христианский символ. Христа оплакивают рыбаки и их жены. Ритуальность жестов, библейская значительность поз и движений дают нам право на подобную трактовку смысла серии.
Особой выразительности Юстицкий достиг в композиции с сидящей рыбачкой в красной кофте и черной юбке, которые решены условно, поскольку сведены они к плоским геометрическим формам. За ее спиной видна бочка с рыбой. Глыбистая, кряжистая, с крупным носом и узкими глазами-щелочками, с большой рыбиной на коленях, она подобна идолу. Но ее мощь и загадочность смягчаются застывшей на лице печалью, катящимися слезами и наивностью, которая читается в жесте пухловатых, по-детски сложенных на коленях рук. В серии явно обнаруживается близость к неопримитивизму – одному из основных направлений в русском искусстве первой трети XX века. Подобно Н. Гончаровой и М. Ларионову, Юстицкий находит источник своих сюжетов в простонародном быту, соединив примитивизм со строго продуманной организацией листа.
В серии найден удивительно емкий синкретизм живописно-пластических направлений. В ней налицо и геометрическая тяжеловесность масс конструктивизма, и фовистская[3] декоративная красочность, и лубочная упрощенность форм. Фигуры людей доведены почти до роли знака. Их трактовка подчеркнуто упрощена – крупноголовые, с узким торсом, с грубовато обезличенными лицами. Просматриваются элементы пластического языка негритянской скульптуры, которой были так увлечены Пикассо, Матисс и многие другие художники конца XIX – начала XX века. Живописная красочность фовизма в классическом ее понимании устремлена к свободной радостной гармонии. Но в «Рыбаках» Юстицкого яркий красный цвет в сочетании с черным, катящиеся по лицам слезы становятся синонимом душевного спазма, замкнутости, экспрессии, не имеющей выхода наружу. Юстицкий сумел фовистские открытия синтезировать с истинно трагическим великолепием гипертрофированных форм. Драматические цветовые контрасты он точно соотносит с равновесием масс, линий, штрихов.
Известно, что по отношению к фовизму бытует понятие «французский экспрессионизм», и параллели между фовизмом и экспрессионизмом давно стали общим местом. Молодой Юстицкий почувствовал то, что «носилось в воздухе», и, существуя в европейском иконографическом пространстве, стремился извлечь художественные идеи, которые соответствовали бы его творческим устремлениям, помогли бы ему обратить движение собственной души и мыслей в движение и звучание красочной материи.
К моменту создания «Рыбаков» Юстицкому исполнилось 23 года. Это и мало и много. С одной стороны, художник еще только ищет свой путь творческой интерпретации конкретного жизненного материала, с другой – серия уже несет в себе те черты эстетического жизнеощущения, которые затем сложатся в цельную систему. А пока он пытается переплыть широкую реку противоборствующих течений, проявляя при этом стремление, дерзость, независимость, «...протест обмертвению, ... крик против единообразного... – напишет автор под псевдонимом Нездешний. – Отрицание условностей... пускай кричащие, но все-таки протестующие. Ищущие, зовущие. Если не к готовому храму, то зовущие от потухающих алтарей... Думаем, можно не соглашаться с толкованиями отдельных художников этого лагеря, можно с удивлением и недоумением встречать их полотна, но в целом это – протест... это – Предтеча Грядущего... Бурлит, пенится, варится, не перебродило еще. А изюминка есть. И, наверно, поэтому вино будет крепко...»[4]В 1918 году В. М. Юстицкий наркомом просвещения А. В. Луначарским направляется в Саратов «создавать пролетарское искусство». Вместе с прибывшим из Москвы художником Н. И. Симоном он возглавил студию живописи и рисунка при Саратовском Пролеткульте[5]. С этого же года становится профессором Свободных государственных художественных мастерских (бывшего Боголюбовского училища, не раз менявшего свое название), где преподает в течение 1920-1930-х годов, относясь к этой работе не менее серьезно, чем к своему творчеству.
Для саратовского искусства первое десятилетие после революции – период не только бурного взрыва творческих возможностей, но и чрезвычайно сложный. В нем проявляются течения, тесно связанные с традициями В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, воспринятые через представителя этой замечательной плеяды – Петра Уткина, долгие годы преподававшего в художественном училище. И в это же время – зарождающиеся авангардные направления, культивирующие новые формы столичных и мировых исканий. Между этими двумя полюсами располагался целый спектр красок, соответствующий разным тенденциям, что послужило участию саратовцев на московских выставках столь различных группировок, как АХРР[6], «4 искусства»[7], «Тринадцать»[8]... Саратов дал интересных и острых соратников или интерпретаторов «столичных течений».В. Юстицкий, Д. Загоскин, Н. Симон, К. Поляков, А. Лавинский составили ядро ОХНИСа (Общество художников нового искусства), который и стал наиболее ярким выразителем левых направлений в искусстве, внес в художественную жизнь города особую остроту и стремительность. Неукротимая энергия Юстицкого, всесторонняя одаренность, широкая эрудиция, огромная любовь к искусству очень скоро сделали его одной из центральных фигур в культурной жизни Саратова.
Яркими, запоминающимися событиями были вечера художников, которые проводились в концертном зале консерватории. На одном из таких вечеров в первом отделении была поставлена опера «Паяцы» с красочными декорациями и костюмами, исполненными по эскизам Юстицкого. Во втором отделении – балет «Танцы красок» – голубой, оранжевой, зеленой, желтой. А в третьем – поэт Михаил Гипси исполнил свои «Весенние слова» в костюме, сделанном опять-таки Юстицким.
Много воспоминаний связано с футуристическим оркестром, построенным на принципах динамики звуков и шумов. Оркестр часто выступал в военных и рабочих клубах, в консерватории. Об одном из таких выступлений рассказал бывший студент Свободных художественных мастерских Борис Васильевич Миловидов: нам было поручено оповестить город о вечере. Бумаги не было. Тогда крупными буквами, сажей мы расписали стены зданий, тротуары. В назначенное время народ пошел к консерватории. Все билеты были проданы. Мы решили продавать еще, так как выручка шла в пользу студентов. Весь зал, все лестницы, все подходы к консерватории были забиты людьми. А народ все шел. Не могли ходить трамваи. Исполнялась “Симфония города”. Ее автором и дирижером был Валентин Юстицкий. Музыкальными инструментами служили гармошки, автоматические гудки, рельсы, железные цепи, одним словом, все, что могло звенеть и стучать. Но это не было беспорядочным стучанием в ударные инструменты. Юстицкий проявлял большую талантливость в организации целой музыкальной картины. Во время исполнения симфонии зритель отчетливо слышал на фоне общего городского шума грохот проходящего поезда, все станционные звуки и шум улиц большого современного города. Исполнителей было человек двадцать. А над ними было написано “ОХНИС”[9].
Прослеживая художественную жизнь различных городов в первые послереволюционные годы, Е. Сперанская упоминает о Юстицком в связи с татлинским проектом памятника III Интернационалу в Москве: «В Саратове художник Юстицкий в своем проекте памятника жертвам революции шел непосредственно от проекта В. Татлина»[10]. О замыслах Юстицкого подробно известил журнал «Саррабис» в 1921 году: «Среди новых принципов, по которым строится новое, революционное искусство, принцип создания подвижных сооружений имеет наибольшую значительность и остроту. Под памятник жертвам революции для Саратова принят представленный художником В. М. Юстицким проект такого движущегося сооружения. Верхний треугольник его означает часы, вышка приспособлена для радиостанции, остальные этажи составляют подвижную систему зал-кают, где разместится музей Революции. Подвижным не будет лишь нижний основной цилиндр, составляющий основание здания, в которое входят вращающиеся цилиндры двух нижних этажей-кают. Технически осуществление такого сооружения возможно, хотя и потребует больших средств и немалой изобретательности техников-инженеров. В настоящее время т. Юстицкий работает уже над проектом движущегося моста через Волгу...»[11]
Научно-художественный отдел Центропечати организует в эти годы самые разнообразные выставки: живописно-пластической культуры, театральных рисунков и портретов, художественно-промышленные. Каждая из них отмечена широтой творческого диапазона. Рядом с «голуборозовскими» работами П.С. Уткина, М.В. Кузнецова экспонировались произведения Д. Загоскина, К. Полякова, испытавших влияние новой французской живописи, «Беспредметная живопись» П. Андреева, «Движение живописных объемов» и «Цветопись» В. Юстицкого.
Выставка «Живописно-пластической культуры» «...представляет собою собрание работ в духе разных направлений в живописной культуре внутренней художественной жизни Саратова. Здесь объединены работы и опыты от крайних “левых” до крайних “правых” художников», – говорилось в предисловии к каталогу[12]. Упомянутые произведения Юстицкого не сохранились, но из названий следует, что он пытался в них решить задачу, сформулированную в одной из своих записей: «Цветопись – ее представлять можно не иначе как отдельный род живописи, основанный на взаимодействии цвета через фактуру вещи. При цветописи возможно создать вполне живописную вещь, руководствуясь исключительно напряжением отдельных красок. Моя будущая вещь синяя»[13]. Свою «синюю вещь» Юстицкий так и не написал. В 1920-е же годы он работает в аскетически сдержанном колорите черных, коричневых, зеленых и серых красок, но при ограниченном употреблении цвета уделяет большое внимание фактурной разработке живописной поверхности, что и помогало придать цвету движение.
Из каталогов последующих выставок мы видим, что их ориентация меняется: большинство экспонируемых работ носят формально-аналитический характер. Это «Концентрация вокруг света», «Свет как материал» Д. Загоскина, «Отражение в кубе» К. Красовского, «Плоскостной и угловой рельефы» В. Юстицкого.
Новые теории, провозглашавшие «материальную самодовлеющую вещь как субстанцию творчества», возникшие в Московском институте художественной культуры, эхом отозвались в Саратове. П.П. Андреев, П.К. Ершов, К.Г. Поляков, Н.И. Симон и В.М. Юстицкий создают группу так называемых «презантистов» (с фр. present – настоящий). В этом названии следует усматривать стремление художников создать новое искусство, созвучное времени, способствовать «возникновению школы настоящего»[14].
Живописные работы, рисунок, импровизации – все они были обозначены как презантические. Юстицкий представил «Станковый презантизм», «Проект презантической скульптуры» и четыре «Презантические архитектурные орнаментации». Ни одна из этих работ нам не известна, но из названий можно предположить, что формально они были близки произведениям А. Родченко. В 1921 году Объединением художников нового искусства была открыта «Выставка живописи и конструкций» стремя участниками – В. М. Юстицким, Д. Е. Загоскиным и К. Г. Поляковым. Юстицкий представил два не известных нам произведения, в которых, судя по отзывам прессы, он шел к полному разрыву с живописью, объединяя цвет и объем с архитектурой: «В вещах Юстицкого имеется налицо разрыв с живописью. Его картины – чертежи, где основную роль играет линия, а черная плоскость есть принятая условность, на которой строятся архитектурные массы и отдельные формы (“Планиметризм пространства”). Юстицкий, как большинство левых художников, имеет за собой ряд живописных этапов, начиная от упрощенного натурализма, и ряд работ над культурной живописью материалов: путь, приведший художника к естественному выходу в архитектуру»[15].
Юстицкий продолжает экспериментировать с плоскостью, включая в нее разнородные материалы. В 1922 году на «Выставке картин современных живописцев» он представил ряд композиций-конструкций с проволокой и шесть планиметрических конструкций.
Беспредметность стала основой всех композиций крайне левых художников Саратова и вела непосредственно к «производственному искусству» 1920-х годов. Но собственная эволюция кубофутуристических и конструктивистских опытов саратовцев привела их в конечном итоге не в лоно «производственничества», то есть к отрицанию станкового искусства, а к преемственности традиций, но уже на другой базе. Русский футуризм в целом не располагал четкой программой, не говоря уже о его провинциальных вариантах. В произведениях Юстицкого наиболее ярко отразилась одна из тенденций этого направления – стремление к урбанизму, к технической культуре, породившие свои эстетико-романтические формы выражения.
Две плоскостные живописные конструкции и «Живописная конструкция с проволокой» – произведения экспериментаторского периода творчества Юстицкого начала 1920-х годов, которые сохранились благодаря тому, что тогда же были приобретены Радищевским музеем. В основе плоскостных живописных конструкций лежит взаимодействие простых геометрических форм: кубов, квадратов, прямых линий, овала, контуров металлических деталей. Формы вклиниваются одна в другую или свободно располагаются в пространстве, тяжелые и массивные объемы сочетаются с тонкой, «металлически жесткой» линией. Холодная гамма черных, коричневых и серых тонов придает работам механический, машинизирующий оттенок. В «Живописной конструкции», написанной на доске, к основе приклеена деревянная планка, покрытая, как и вся поверхность, левкасом, – по нему как бы продолжается основной рисунок. Эту работу не назовешь коллажем, хотя и присутствует принцип наложения одной формы на другую путем склеивания. Ближе к коллажу «Живописная конструкция с проволокой», в которой монтаж выполнен путем наложения разнородных объектов: на овал, покрытый черным цветом, прикрепляется спиралевидная проволока и прочерчиваются белые супрематические линии.
Коллаж, открытый в 1911 году Браком и которым очень активно пользовался Пикассо, исповедовали многие русские художники. Широко экспериментировали с коллажем О. Розанова, Ю. Анненков, В. Лебедев, Л. Попова, А. Лентулов. А. Родченко работает над серией «белых скульптур», представляющих собой абстрактно-конструктивные коллажи разного рода геометрических форм и фигур, В. Татлин создает свои контррельефы из различных предметов и материалов, разнородных по цвету, фактуре и текстуре. Коллаж использовался не только для создания предметных композиций, но и для решения задач формообразования. Интерес к процессам формообразования и ритмопластическим закономерностям организации пространства характеризует В. Стерлигова и близких к нему художников, таких как Е. Гуро, М. Матюшин, М. и К. Эндер и др. В коллаже заявила о себе свойственная в целом авангарду идеология экстремального, пытающаяся взорвать академические постулаты с целью проникновения в глубины окружающего мира как целостной органической структуры.
Не в меньшей степени Юстицкий был увлечен и кубизмом. Находясь в Париже, он не мог не познакомиться «из первых рук» с принципами кубизации формы. Но только в саратовский период он применяет элементы кубизма. На сохранившихся фотоснимках выставок 1920-х мы видим рисунки Юстицкого с кубистически геометризованными фигурами рабочих, исполненные, очевидно, для росписей фриза Дома Коминтерна. Как и другие русские художники, он воспринял кубизм, прежде всего, как «систему».
Вслед за Малевичем, который считал, что каждый, не перешедший на «кубизмо-футуристический путь, погибнет для искусства», Юстицкий не так категорично, но совершенно определенно признавал кубизм «истинной академией современности, не требующей доводов и говорящей сама за себя»[16], и считал необходимым усвоение его принципов. Он вообще придавал большое значение системе знаний и их практическому применению, полагая, что эксперименты одиночек решительно ни к чему не приводят. «Видимо мы, русские, не умеем использовать опыт определенных строго очерченных задач. Везде забегание и везде скачки»[17]. Несколько позже, в 1930-е годы, крупнейший исследователь русского искусства Николай Пунин напишет о значении для мирового искусства открытий кубизма. «Самое ценное в кубизме – это масштаб. Это прогулка по краю мира, разговор по прямому проводу с мирозданием, радиопередача векам»[18]. Кроме того, он считал, что на методах кубизма были замешаны все течения современной живописи.
Принципы кубизма, супрематизма и конструктивизма, через которые прошел и Юстицкий, легко становились основой «школы» и «стиля», приобретая черты всеобщности. Юстицкий мечтал объединить единомышленников вокруг художественной идеи. Многие его ученики и художники, работавшие рядом с ним, прошли период экспериментов. Элементы кубизма с введением коллажа видны в работах Д. Загоскина («Конструкция с пластинками», «Конструкция лампы»), своеобразную интерпретацию метода кубизма и конструктивизма дали К. Поляков и Н. Симон, М. Троицкая и Е. Егоров. Одни художники довольно быстро усвоили и применяли сумму формальных приемов кубизма, познав законы разложения видимой формы и ее конструирования, другие, лишь прикоснувшись к ним, также быстро отказались от них.
Юстицкий не встал на путь эстетизации научно-технического прогресса как созидательной общественной силы, хотя его и привлекали в новых направлениях рационализм и аналитичность, универсальность законов строения и структуры. Однако лабораторные опыты с формой, цветом, плоскостью не прошли даром. Они помогли ему в дальнейшем не замыкаться на случайном, преходящем, а выявлять главное, синтезировать разрозненные впечатления в единое целое.
В 1923 году в Радищевском музее состоялась первая персональная выставка Юстицкого, которая поразила современников большим количеством фигуративных композиций. До этого многие считали, что он занимался «безделушками»: на поверхности были такие, казалось бы, мальчишеские забавы, как развешивание картин на деревьях вокруг музея или выступления с футуристическим шумовым оркестром. Кем только его не называли – и мистиком, и азиатом, и футуристом. И вот 37 работ с изображением крестьянок, молочниц, гадалок, рыбаков, выполненных в насыщенной гамме густых серо-коричневых тонов, не только удивили публику, но и создали ему репутацию художника внутренне содержательного, жизнестойкого, с большим творческим потенциалом. Местная критика в целом верно определила общее направление исканий Юстицкого. Газета «Саратовские известия» писала о нем как о художнике, на котором «...с барометрической чувствительностью отразились характерные черты и вехи нашей переходной эпохи в искусстве... Отчаявшись в старой живописи, он приходит к ее отрицанию... Послушный зову машинизма, ищет решения вопросов искусства в конструктивных построениях... Но стихия живописца не может удовлетвориться мертвым бесконечным материалом, и Юстицкого тянет к красочному пятну, к восстановлению прав живописи. Еще шаг вперед, и Юстицкий уже у порога современного реализма, но преображенного, переработанного в сложной и пока все еще загадочной живописной лаборатории современности»[19].
Кроме ранее упомянутых конструктивных композиций из всей выставки сохранились еще три – «Анжелюс» (1921), «Молочница» (1923) и «За столом» (1923).
«Анжелюс»[20] – несомненное свидетельство выхода формальных поисков в пространство вечных пластических ценностей, кажущийся простым результат многосложных исканий. Картина действует на нас мгновенно, сильно, магически. Ее форма, подобно звучанию огромного колокола, зачаровывает глубиной и силой. Первое впечатление не ослабевает, овладевает зрителем надолго, уводя от обыденности в мир высокого нравственного идеала. Горизонтальные и вертикальные членения композиции исполнены мощи, пластические объемы предельно выверены. По лапидарности исполнения она близка работам конструктивистов, но ее простота и законченная ясность – не результат «бескровного схематизма», образ здесь – не бесплотная структура. Реалистическое начало «Анжелюса» – в характере самого воздействия на зрителя. Юстицкий дает представление о земле, о благородном извечном труде крестьян, о простых предметах, им сопутствующих, представление, добытое из тысячи случаев.
Женщина ставит на стол глиняный сосуд. В момент еще не завершенного движения она застигнута первым, как бы наплывающим, ударом колокола. Это ощущение усиливается по мере того, как наш глаз медленно скользит по вертикальным и горизонтальным членениям, исполненным мощи, и от повтора этого движения возникает ассоциация с гулко звучащим, монотонно раскачивающимся колоколом. Большую смысловую нагрузку несет коричневое пространство фона с идущим из его глубины теплым светом. Фон напоминает густо-коричневую землю, а его свет воспринимается как источник тепла, исходящий от земли. На земле родился человек, в земле он черпает свою силу, в труде – нравственную красоту. Свет озарил лицо и руки крестьянки, преувеличенно большие, лишенные изящных очертаний.
Тем же методом художественного обобщения руководствовался Юстицкий и при создании «Молочницы», в которой все компоненты подчинены строгой системе соотношений. Узкий торс женской фигуры едва выступает из коричневого фона. Его стройности противопоставлены крупные руки и огрубленные черты лица. Но как застенчиво повернута в сторону голова и почти в молитвенном жесте поднесены руки к сосуду с молоком, отчего он воспринимается как наиболее значимая деталь всей композиции. От поверхности молока идет свет, озаряющий лицо и руки молочницы. Это поистине «чаша жизни». Легкое свечение за фигурой, несколько рафинированная элегантность в ее позе и движении превращают огрубленный образ в своеобразную крестьянскую мадонну. Надындивидуально-синтетический, он выражает тот же нравственно-этический идеал, который был намечен Юстицким в «Рыбаках» 1916 года.
Современники отмечали, что в мастерской Юстицкого «ближе к земле», чем у других преподавателей. Но художник никогда не идеализировал народ и, словно боясь создать сентиментально-красивые, прекрасно-пресные, приглаженные образы простых людей, он деформирует форму, огрубляет детали, не пользуется светлыми и яркими красками. Он утверждает эстетику идеала не внешне красивого человека, а внутренне значительного. К тому же, проявляя интерес к народной теме, крестьянскому быту, всегда был далек от «злобы дня». Народная жизнь в целом была для него высоко этическим, нравственным идеалом.
Несмотря на то, что Юстицкий увлекался примитивизмом, кубизмом, конструктивизмом, глубоко соединив и переработав особенности разных направлений, он оставался романтиком по мироощущению. Прямых аналогий его крестьянским образам найти трудно. Известно, что он высоко ценил раннюю готику, античность, раннехристианское искусство. В них он находил величие и строгость. По его словам, это искусство было выстрадано на заре истории человечества – отсюда такое сильное впечатление и огромное содержание, о котором часто и не помышляли авторы.
Юстицкий не был охвачен пафосом отрицания всего прошлого наследия. Но он понимал, что жизнь, которая пришла с революцией, требует новых форм выражения. Традиционно-академическая ориентация или позднепередвижническая система ценностей его не устраивали. Мифологизация революционных событий, ощущение «бега времени», новое представление о скорости, пространстве требовали иных структурообразующих форм в искусстве. Не надо забывать и того, что все так называемые «измы» – футуризм, кубизм, абстракционизм, не говоря уже об импрессионизме, – возникли задолго до революции и в провинцию пришли с большим опозданием. Юстицкий, вечно стремящийся к яркому, нестандартному, не мог пройти мимо этих поисков в художественном движении начала XX века. Беспредметность раскрыла перед ним не только новую картину мира, но и обнажила первоэлементы художественной формы, обострила и обогатила язык его живописи.
Увлекаясь театром, Юстицкий сотрудничает с режиссерами А.М. Роомом и А.И. Каниным. Он разделял идеи «коллективного творчества» А. Роома и проявлял интерес к народным формам лубочного театра, открытого А. Роомом в 1919 году (Театр лубка и сатиры). Вместе они делают «конструкцию сцены» к спектаклю «Ревность Барбулье» (по Мольеру). С А. Каниным Юстицкий оформляет спектакль «Паровозная обедня» Василия Каменского. Первый спектакль состоялся 8 февраля 1921 года в театре им. Карла Маркса. Критик Н.А. Архангельский отметил конструктивность постановки и то, что костюмы были выполнены из мешковины, шинелей. Юстицкого упрекали в футуризме – во втором акте отправление паровоза в дорогу празднует материал: шпалы, рельсы, гайки, уголь. В центральных «Известиях» (1921, 16 февраля) был напечатан положительный отзыв А. В. Луначарского, который, посмотрев спектакль, нашел его вполне удачным и отметил, что в нем нет мистического поклонения вещам, а есть поэтическое прославление труда. Но даже его положительный отзыв не спас пьесу от закрытия. Аскетически-схематическое решение сцены, костюмов, использование дерева, железа, мешковины, преобладание черного
В начале 1920-х годов Юстицкого еще считали московским художником. В 1922 году в газете «Известия» сообщалось о том, что возвратился в Москву художник-конструктивист В. М. Юстицкий и что он последние три года пробыл в Саратове в качестве профессора художественного института. Отмечено и то, что в это же время им были поставлены «Паровозная обедня» В. Каменского, «Карл Моор» («Разбойники» Ф. Шиллера), «Зори» Э. Верхарна, в которых им были применены архитектурные костюмы, конструктивные формы постановки.
Но Юстицкий тогда вернулся в Москву временно, по приглашению 2-й Академической студии МХАТа для оформления спектакля по пьесе Шиллера «Разбойники».
Конструктивные идеи сценографии спектакля отличали и эту работу Юстицкого в постановке режиссера Б.И. Вершилова в 1923 году. Большой удачей, на наш взгляд, было сочетание жестких конструктивных декораций с фигурами исполнителей. Парики были изготовлены М. И. Черновым из особых шнуров, что придавало им скульптурность, рельефность, характер лепки. Декорации Юстицкого получили противоречивые оценки. Одни видели в его конструктивизме лишь декоративность, другие поздравляли с блестящим успехом. Виктор Эрманс писал: «...конструктивизм Юстицкого – первичного типа, декоративный, якуловский, родственный Камерному театру...»[21]. В то же время журнал «Зрелище» отмечал: «Теперь о декорациях. Конструктивизм докатился до студий в тех соглашательских (пользуясь политическим термином) формах, которые не слишком ужаснули бы благопристойного зрителя МХТ. В данном случае здесь все путано, затемнено и затруднено для актеров. Это кустарный, провинциальный конструктивизм и лучше бы, если бы его не было. Так же надуманы и кустарны костюмы... Но, во всяком случае, «Разбойники» это отрыв от унылых традиций и, может быть, погребение старых методов 2-ой студии»[22]. Н. П. Баталов приводит в своей книге[23] воспоминания современников о спектакле, в частности П.А. Маркова[24]: «В спектакле было деформировано всё, начиная от декораций и кончая человеческими фигурами. И сквозь всё нагромождение лестниц, площадок, пересекающихся плоскостей, сквозь неестественные гримы, сквозь искривленные туловища неожиданно прорывались и актерский темперамент, и исключительная выразительность, и большая внутренняя наполненность»[25].Эскизы не сохранились. Известно только, что спектакль прошел с большим успехом, о чем телеграфировали художнику в Саратов. Ему не удалось побывать на премьере.
Со временем В. Юстицкого стали считать саратовским художником. Его работы все чаще и чаще появляются на московских выставках среди произведений молодых саратовцев, на творчество которых обратила внимание столичная критика. Так, в журнале «На литературном посту» В. Ман писал: «Любопытна группа саратовской молодежи (Миловидов, Сидоренко, Егоров), выставившаяся вместе с П. Уткиным, по существу не изменившимся со времени “Голубой Розы”... Из этой группы следует выделить В. Юстицкого, как более самостоятельного и зрелого... Хорош у него “Пейзаж”, но и здесь некоторое увлечение Уткиным»[26].
Упомянутый пейзаж и целый ряд других работ 1926 года до нас не дошли. Но сохранилось несколько фотографий, по которым можно судить, что в какой-то степени Юстицкий действительно попал под обаяние тонкой лирики уткинских работ, что проявилось в мягкости тоновых отношений, декоративной изысканности линейных ритмов и в предпочтении работе маслом технику темперной живописи. Показателен пейзаж «Ночь». Черно-белая фотография дает представление о конструкции пейзажа и его тональном решении. Сопоставлены две основные массы форм: темные, жестко-графические силуэты строений, расположенных кулисно, и светлое, высокое готическое сооружение между ними, чуть в глубине. Над ними светящееся широкими лучеобразными полосами небо. Именно оно и напоминает синие сказочно-звездные небеса П. Уткина. Интересно то, что светлое здание отсылает нас непосредственно к саратовской консерватории, построенной в стиле немецкой псевдоготики. А две лошадки, запряженные в сани, изображенные на переднем плане, тоже одна из примет саратовских улиц, в сочетании с готическим мотивом создают совершенно необычный пейзаж.
На фотографии рядом с этой работой мы видим «Автопортрет» художника, несколько натюрмортов и пейзажей. Эта «...живопись Юстицкого строится на принципе декоративно-монументального искусства. Простота и ясность, архитектурность и строгость композиции, статичность и краткость языка форм обусловливают искание стиля. Если вспомнить персональную выставку художника 1923 года, то, несмотря на разницу, возникающую при сопоставлении лаковой поверхности тех вещей с матовой живописью настоящего периода, он сохранил ту же статичность, упрощенность форм и лаконичность выражения»[27].
Подобные работы Юстицкого экспонировались на выставках объединения «4 искусства», возникшего в 1925 году. Юстицкий был членом этого объединения, в состав которого в основном входили крупнейшие, общепризнанные мастера, бывшие участники «Мира искусства» и «Голубой Розы». Среди них были саратовцы Павел Кузнецов и К. Петров-Водкин, которые поддерживали молодых художников-земляков. Известно, что огромную помощь оказывал Павел Кузнецов молодому В. Кашкину[28], переехавшему в Москву. Юстицкого никогда не забывали пригласить на то или иное мероприятие. Так, например, в 1929 году Комитет по организации чествования 25-летия творческой деятельности профессора П. Кузнецова направил В. Юстицкому персональное приглашение.
Юстицкий был экспонентом не только объединения «4 искусства». Он принимал участие в выставках многих московских творческих союзов. Группу «4 искусства» его работы устраивали высокой живописной культурой, Ассоциация художников революционной России (АХРР) – демократичностью образов. АХРР был наиболее крупным художественным объединением тех лет. С 1923 года его филиалы создаются в ряде провинциальных городов. В Саратове возник такой филиал по инициативе В. Перельмана и Б. Зенкевича. Председателем был избран В. Кашкин, хотя его творческие поиски не соответствовали идеологическим установкам АХРРа.
В 1925 году саратовцы приняли участие на VII выставке АХРРа «Революция, быт и труд», проходившей в Москве. На ней экспонировалось свыше двух тысяч работ из разных городов. Саратовские художники обратили на себя внимание столичной критики: «...с большим удовлетворением хочется отметить проблески живописных исканий у ахрровской молодежи, – писал Я. Тугендхольд. – Много теплоты и любви к натуре у молодых, но уже культурных саратовцев, впервые дебютирующих здесь: Полякова, Юстицкого, Белоусова, Егорова... У всех этих художников пробивается желание отыскать в окружающем городском и деревенском быту художественные ценности в смысле цвета и ритма»[29].
На этой выставке Юстицкий был представлен четырьмя работами: «Немец колонист», «Вечер», «Осенние цветы» и «Пейзаж». Местонахождение этих работ нам не известно.
Героями многочисленных рисунков (а в дальнейшем и живописи) Юстицкого были любимые с детства лошади – с жокеями, всадниками и всадницами, то стремительно мчащиеся, то грациозно несущие на себе прекрасных дам, исполненные тушью, чернилами, акварелью, – они принесли Юстицкому славу прекрасного рисовальщика.
Легкий, раскрепощенный рисунок в какой-то степени давал ему облегчение после сосредоточенной работы в живописи. «Я страшно мало рисую, так как много пишу. Это скверно. Рисунок стал путаный. Нет лаконичности»[30]. Когда удавалось рисовать, темперамент и воображение словно опережали его глаз, и рука молниеносно наносила экспрессивные линии и пятна. Юстицкий считал, что рисовать нужно как можно больше по памяти и сравнивать с натурой. Только следуя такому методу, появится свобода в композициях, изобилие решений. Копирование натуры, по его мнению, лишает художника истинного познания и чувства пластического искусства. Не случайно своих учеников он буквально «натаскивал» на быстрых кроках. Схватить момент движения, характер позы и передать их в несколько секунд быстрым росчерком пера – задача, многократное выполнение которой воспитывало остроту глаза и точность руки. Эти уроки особенно благотворно сказались в творчестве его любимого ученика и друга Евгения Егорова. Легкий динамичный контур набросков выявлял объемы, полновесность форм,
В 1929 году Юстицкий становится экспонентом графической выставки группы «Тринадцать» – нового объединения малоизвестных в то время художников Москвы, Ленинграда, Саратова. Инициаторами создания этой группы были Н.В. Кузьмин, В.А. Милашевский и Д.Б. Даран. Затем к ним присоединились Т. Маврина, сестры Над. и Н. Кашины, М. Недбайло, Б. Рыбченков, О. Гильдебрандт и другие. Культивировался интерес к «вольной линии», доминировал принцип раскрепощенности, мгновенности исполнения набросков, характерные для французской школы XIX века.
Стремление Юстицкого к быстрому, свободному рисунку, охватывающему натуру во всей цельности и динамике ее проявлений, соответствовало направленности «Тринадцати». Это и послужило тому, что при очередной встрече с В. Милашевским в Москве, куда он привез «показать свое масло», его пригласили принять участие на выставке.
Н. Кузьмин вспоминал, что подбор участников и экспонатов не был случайным. Определенная стилистическая линия была отмечена критиком Б.Н. Терновцом, в то время директором музея Новой западной живописи. В его вступительной статье к каталогу первой выставки говорится о высокой графической культуре и ориентации на таких мастеров, как Гис, Матисс, Дюффи, Дега. Но влияние Запада, указывает он, чувствуется в формах ненавязчивых и ведет не к механическому повторению чужих приемов, не к восприятию мира через «чужие очки», а к утончению вкуса, обогащению возможностей и подходов.
Большинство участников первой выставки экспонировали по 10[31] и более работ. Юстицкий представил четыре рисунка на тему «скачек». «Этюды скачек Юстицкого – проблемы передачи движения, увлекавшие когда-то Дега и не перестающие волновать современных художников», – этот отзыв Б. Терновца далеко не исчерпывает задач, которые ставил и мастерски решал Юстицкий. Экспрессии, движению он стремился придать лаконизм и утонченную стилизацию. В рисунке «Всадник» спокойное, грациозное шествие лошади с жокеем передано предельно выверенными линиями. Среди его многочисленных «лошадок» последующих лет этими качествами выделяется лист 1936 года «Скачки».
Особое изящество линий, причудливость формы и непринужденный артистизм придают рисунку характер арабески. Уверенная рука художника и тонкий вкус позволили ему «вытянуть» по горизонтали корпус лошади и длинную «лебединую» шею с небольшой изящной головкой, слегка наклоненной вниз. Гибкое, как бы «растянутое» на плоскости, плавное, стелющееся движение лошади на переднем плане энергично подхвачено стремительно нанесенным росчерком уздечки, которую держит всадник, изображенный еще более энергичными и быстрыми штрихами. Второй всадник движется в противоположном направлении. Между ними возникают выразительные фоновые пространства, играющие равноценную роль в структурной организации композиции. Этот рисунок как бы завершает собой поиск темы всадников.
Творческое дарование Юстицкого было высоко оценено не только в Москве, но и в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, где он неоднократно выставлялся вместе с такими мастерами, как Г. Верейский, Н. Купреянов, П. Филонов.
Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС) не раз предлагало Юстицкому предоставить работы для зарубежных выставок. В одном из таких обращений было написано: «Учитывая тот громадный интерес, который Америка проявляет за последнее время к на-шей художественной промышленности и изобразительному искусству, а также исключительную важность американского рынка в экономическом отношении для СССР... в декабре месяце с. г. устраивается в Нью-Йорке “Выставка-базар”, которая будет распадаться на два основных отдела: первый – художественная промышленность, второй – изобразительные искусства со-временных художников СССР... ВОКС приглашает Вас участвовать на этой выставке, просит учесть ее исключительное значение, как культурно-просветительное, так и экономическое»[32]. Работы Юстицкого, как правило, назад не возвращались, они все раскупались.
В ноябре 1930 года московские «Известия»[33] сообщали, что английская газета «Манчестер Гардиан» поместила рецензию о работе советских художников в Лондоне. Указывая, что выставка вызывает большой интерес, рецензент подчеркивает, что среди произведений нет ни одного, которое не заслужило бы внимания. Особенно интересны, по его мнению, работы художников Верейского, Купреянова, Филонова и Юстицкого.
В конце 1920-х годов Юстицкий создает серию гуашей с жанровыми сценами, где наиболее ярко просматриваются стилевые особенности экспрессионизма.
Какое место в творчестве Юстицкого занял экспрессионизм? Этот вопрос не надуман и не случаен. Его выяснение чрезвычайно важно для понимания искусства художника и его судьбы.
Многие исследователи считают, что о русском экспрессионизме трудно говорить как о художественном направлении, хотя произведений, отмеченных чертами экспрессионизма, гораздо больше, чем кубистических и футуристических. Но чистых экспрессионистов, таких как немецкие мастера Кете Кольвиц, Георг Гросс, Отто Нагель, Отто Дикс, Оскар Кокошка и многие другие, с творчеством которых познакомилась Москва в 1924 году, а Саратов в самом конце этого же года, в русском искусстве мы не найдем. Скорее, это особый период творчества того или иного художника, укладывающийся в короткий временной отрезок, или ряд произведений.
Экспрессионизм, возникший в Германии в начале XX века, по определению Д. Сарабьянова, проявляется в крайней степени деформации реальности, остроугольных изгибах, открыто кричащих сочетаниях красок, подчеркнутой контурности цветового пятна, нарочитой небрежности наложения мазка, символизирующей творческую свободу, контрастность в сопоставлении линии и плоскости. Этот набор признаков экспрессионизма казалось бы призван передать повышенное восприятие кризиса жизни, краха привычных устоев и желание говорить громким голосом. Но в 1920-е годы у Юстицкого они работают на совершенно иное мироощущение.
В 1928-1929 годах художник создает целую серию гуашей, довольно больших по размеру листов (40 х 60). Экспрессивные моменты в ней переплелись с гротеском, со стилизацией под примитив, декоративностью. Для серии характерна значительная деформация форм. То, что не деформировано, не имеет ощутимой предметной внешности, считал Юстицкий. «Физиономия должна освободиться от необработанного мертвого материала анатомии, и если художник хочет выделить физиономию, то естественные границы человеческого лица не должны ее стеснять – он может продолжать выражение лица за пределы контуров»[34].
Сплетение образных структур – явление нередкое в русском искусстве. Главный акцент в серии сделан на гротеске, который в сочетании с поэтико-романтической интонацией рождает особый стиль. Каждый лист – это новый цветовой аккорд, иное композиционно-пластическое изображение сцены. Почти во всех работах используется эффект световых ударов на темном фоне, полукружием обрамляющих мизансцены. Чистый, открытый цвет сочетается с более тонко разработанными оттенками. Гротесково-преувеличенная трактовка образов в соединении с романтической интонацией, свойственной художнику всегда, создает тот особый стиль серии, в которой возвышено то, что на первый взгляд может показаться лишь забавным. В отличие от образов рыбаков и крестьянок, здесь больше развернутой повествовательности, но не бытовой, а романтически литературной. Всевозможные сцены: игра в карты, возвращение с охоты, семейные группы – даны в таинственно мерцающем мраке ночи, а сами персонажи с рыжими или черными бородами, крючковатыми носами, преувеличенно толстыми или чрезмерно тонкими шеями завораживают своей загадочностью.
Из серии, отмеченной чертами экспрессионизма, выпадают три листа, которые отличаются монументальностью и эпичностью. Это «Хоровод», «Семья» и «Всадницы».
В первом – четыре женские фигуры, расположенные по кругу, лишь напоминают сцену хоровода. Жесты сильных рук, широкие развороты плеч, спокойно грациозные движения воплощают в себе мощь и силу. Гармонию создают наклоны голов, словно передающих друг другу единый порыв чувств, красные, синие и желтые одежды, выражающие радость жизни, счастья, здоровья. Художник утверждает это как великую ценность бытия.
Монолитность композиции с изображением матери, отца и ребенка поддерживается спокойным, приглушенным звучанием синих, лиловых и серых тонов. В медленных, плавных ритмах поз и движений – равновесие, сдержанность.
«Всадницы» – один из лучших листов серии. Звучание двух женских фигур на фоне ночного неба печально и величественно. Их уплощенные, преувеличенно мощные фигуры лишь кое-где подчеркнуты контуром, чаще смещенным, не совпадающим полностью с цветовым пятном, что создает впечатление неопределенности, зыбкости. Холодный свет луны ложится легкими отблесками на лица, руки, плечи. Состояние людей созвучно природе.
Общим же для всех листов является огрубление, примитивизация форм, декоративная красочность колорита.
Эту серию можно определить словами Блока – «хоровод народного праздника». Юстицкий всегда стремился уйти от рафинированности и эстетства к «народности», от индивидуализма – к «новой соборности». Этот поворот был характерен не только в изобразительном искусстве, но и в поэзии символистов. «Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении – символы некоей реальности», – писал Андрей Белый[35]. Юстицкий также «уравнивает», правда, не кабаки и трактиры с жемчужными зорями, а крестьян, рыбаков, гадалок, цыган, вычленяя их из реальной среды и трактуя таким образом, что они приобретают надмирность и фантазийность.
Живописной и графической экспрессией отличаются многочисленные рисунки 1930-х годов, выполненные в смешанной технике (тушь, акварель, гуашь, перо, кисть). Натурный материал для реализации своих мыслей и эмоций художник часто находил на саратовском Сенном рынке, где он бывал по воскресным дням. Из окрестных поволжских деревень приезжали мужики в длинных зипунах на лошадях, привозили бочки с капустой, грибами, торговали рыбой, медом, зерном и т.п. Можно было видеть, как они горячо спорят, торгуются, просто мирно беседуют. Это был для художника настоящий жизненный театр, переполненный яркими, островыразительными типами, которые легли в основу его рисунков, гуашей, картин. Для Юстицкого как бы не существует «серой жизни маленького человека» с его надломами и внутренними конфликтами. Все его персонажи находятся вне социальной «злобы дня». Взлохмаченные, худые, обросшие щетиной, в зипунах, они полны органичного самоуважения и достоинства.
Многие его рисунки, например «Старуха с пуделем», «Извозчики», «Три мужика», напоминают рисунки и акварели французского художника Жоржа Руо. Они исполнены в такой же эскизной манере, свободными черными линиями и цветовыми пятнами. Объемы фигур уплощаются вихрем экспрессивных штрихов и пятен. Черная тушь подчеркивает прозрачность и яркость акварели.
К концу 1920-х годов идеологическое давление на все области творческой деятельности усиливается, от художников требуется «единство мироощущения», только искусство ахрровцев было объявлено соответствующим революционным идеям. Старые, закоренелые формы академизма и позднего передвижничества приспосабливаются художниками этого объединения к ходовым современным сюжетам. Даже определяется список основных тем: индустриальная, рабочая, колхозная, новый быт. Работы «чистых» ахрровцев страдали излишним натурализмом и отсутствием живописной культуры. Но не все художники поддавались конъюнктуре. «Быть на поводу у натуры – значит ограничить мысль, мечту и средство выражения», – это высказывание Нины Кашиной отражает позицию тех художников, которые продолжали честно работать.
«Все же что-то нормальное пробивается наперекор “политическим установкам” и требованиям “полной перестройки”»[36]. И дело было не в темах, а в уровне произведений.
Художники разных поколений с большим энтузиазмом откликнулись на развернутую Всекохудожником кампанию запечатлеть трудовые будни страны – стройки, прииски, порты, работы на полях и т.д. Не все желающие могли получить командировку. Приходилось самим зарабатывать деньги и отправляться – в экспедиции, на экскурсии, устраивались кто как мог. Художники побывали на Байкале, в Бурят-Монголии, Бухаре, Самарканде, в заволжских степях, сплавлялись по сибирским рекам, плавали на ледоколах по Северному Ледовитому океану... Это было поистине беспримерное подвижничество. Порой приходилось и голодать, и преодолевать пешком большие расстояния. Но желание увидеть мир побеждало все трудности. На отчетные выставки привозилось огромное количество набросков, зарисовок, этюдов, по которым потом писались картины. Если бы все то, что было создано в эти годы, сохранилось, мы имели бы бесценный художественный материал. Многие работы пропали во время войны, в пожарах, просто выброшены и уничтожены при арестах художников, обвиненных в формализме и антисоветской деятельности.
На это движение откликнулись и саратовцы. В. Кашкин, в 1929 году командированный в Сталинград на медеплавильный завод, написал работы: «Мартеновский цех», «Рельсопрокатный цех». Эти индустриальные полотна были отмечены как «очень живописные и выразительные»[37]. Красноармейцы-лыжники из одноименной картины Петра Уткина в длинных шинелях под синим ночным небом приобрели символико-поэтическое звучание.
Производственная тематика захватила и молодых саратовских художников. Дополнительным толчком послужила выставка 1930 года из Москвы, открытая в залах Радищевского музея. В произведениях крупнейших мастеров, принадлежавших в 1920-е годы к самым различным творческим объединениям («4 искусства», «Бытие», «13», АХРР), преобладали мотивы индустриального строительства и социалистического переустройства деревни – большинство работ были выполнены во время официальных командировок 1929 года. Но художественная культура еще не была потеряна. Политизация искусства не подорвала художественную систему таких мастеров, как П.В. Вильямс, И.И. Машков, М.С. Сарьян, А.А. Дейнека, А. Г. Тышлер, с творчеством которых впервые так широко познакомились и художники, и публика Саратова.
Вслед за московской выставкой саратовцы развернули собственную, показав огромное количество работ на востребованные темы: «Цементный завод» И. Андреевского, «Колхоз молотит», призывающего толпы людей следовать за ним. Фигуры угловато упрощенные, написаны экспрессивными линиями и пятнами.
Не избежал Юстицкий и декоративно-оформительской работы. Им были расписаны стены зала ожидания саратовского вокзала. «Яркими красками отражена здесь индустриальная и колхозная тематика, транспорт... Работая над большими полотнами в плане реалистического отображения нашей действительности, я стремлюсь создавать произведения, которые бы легко и радостно воспринимались широкой массой зрителей. Наиболее яркое выражение это должно найти в картине “Рыбацкий колхоз”, которую я сейчас заканчиваю...», – записано корреспондентом из интервью с художником. И далее: «В.М. Юстицкий работает главным образом над тематикой края. В его мастерской приковывают внимание большие полотна: “Сибирский тракт”, “Выезд артиллерии на позиции”»[38].
Наиболее значительное произведение 1930-х годов, которое сохранилось и является органичным для художника, – картина «Рыбаки». Она была написана, очевидно, одновременно с несохранившимся полотном «Рыбацкий колхоз» и, надо полагать, имеет с ним много общего. Два рыбака – это вовсе не те жизнерадостные колхозники, которых изображали в духе социалистического реализма. Это грозные мужики-бородачи, вытягивающие сети с рыбой в глухую ночь на Волге. На темном небе вспыхнуло зарево луны, блеснув серебром в непроглядно черных водах реки. И только свет фонаря, смешавшись с лунным светом, озарил хмурые лица, заскорузлые пальцы рук, кружево сети, рыбин, отливающих изумрудной зеленью, одну из которых держит рыбак. Ее изогнувшаяся, упруго-пружинистая форма уподоблена согнувшейся фигуре мужика. Этот линейно-ритмический отзвук есть и в приподымаемых вверх сетях и в круглящейся линии горизонта. Романтическая интонация полотна вытекает из того же мироощущения художника, что и гуаши 1928-1929 годов.
Что означало быть романтиком в те годы? Романтики «по составу крови» индивидуалисты. Их вольный дух сопротивляется общепризнанному, упорядоченному. А их произведениям свойственна иррациональность, таинственность, артистизм живописных эффектов. Не случайно крепкая дружба связала Юстицкого с писателем Артемом Веселым[39]. Они оба не знали «статики событий», оба были в движении, в порыве, в горении, в сотне переплетающихся дел, в тысяче забот. «Это один из наиболее талантливых и многообещающих пролетарских писателей вообще и, пожалуй, самый сильный и оригинальный стилист среди них», – напишет критик А. Лежнев[40] в годы, когда Артем Веселый еще входил в литературную группу «Перевал». Его энергичный, стремительный стиль, сгущенно-колоритная, бытовая, короткая, отрывистая, задыхающаяся фраза, где глаголы опущены во имя напряженности действия, где герои – цельные натуры с сильными страстями, – все эти качества неоднократно отмечались коллегами по перу, критиками и читателями.
Для сбора материала к книге «Гуляй Волга» Артем Веселый предпринимал продолжительные путешествия по Чусовой, Каме, Волге, Иртышу. Заглавие романа сам автор объясняет так: «Гуляй Волга – это великая река, выходящая из берегов, разливающаяся на просторе, это Россия, продвигающаяся на восток...»[41]
По воспоминаниям Анны Валентиновны, дочери Юстицкого, друзья проводили вместе немало дней на Волге. В 1934 году Артем Веселый подарил В. Юстицкому книгу «Гуляй Волга», которую он назвал сочным куском своего сердца, надписав на ней: «Да закипит слеза ключом под кистью твоей. Святоша узок, лицемер жесток. Звучит упрямо проповедь Хайяма. Разбойничай, но сердцем будь широк. Саратов, ноябрь 1934. Артем Веселый».
Картину «Рыбаки» Юстицкий создал в этом же 1934 году, и неудивительно, что его грозные мужики перекликаются с персонажами казацко-бурлацкой вольницы Ермака, дерзко действующими на страницах романа Артема Веселого.
В 1935 году издательство «Советский писатель» выпустило третье, «...как бы теперь сказали, подарочное издание: большого формата том в алом переплете, в белой суперобложке, цветной портрет Артема Веселого работы В. М. Юстицкого, цветные вклейки, проложенные прозрачной бумагой, тонкие и выразительные рисунки Д.Б. Дарана»[42]. Речь идет о самом грандиозном романе Артема Веселого «Россия, кровью умытая». Находясь в Саратове, писатель послал телеграмму в Москву Дарану: «Не возражаешь, если в “России” будет напечатан мой портрет работы художника Валентина Юстицкого», на что получил согласие. Яркий колоритный портрет кисти Юстицкого явно контрастирует с каллиграфическими рисунками тушью, сопровождающими текст. «Когда вышла “Россия” с моими иллюстрациями, – вспоминает Д. Даран, – Артем Иванович там же в издательстве, встретив знакомого писателя, показал ему книгу. Тот сказал: “Неподходящий у тебя художник: ты пишешь о вещах суровых, грубых, а он тебя рисует тонким перышком”, на что Артем Иванович возразил: “Что же меня сапогом что ли рисовать”»[43]. Юстицкий написал А. Веселого в огненно-рыжем полушубке и высокой черной папахе, выданной ему по ордеру еще в 1920 году. Суровый облик казака с темными усами, широкоплечего, несколько угрюмого и диковатого, вполне соотносится со словесными портретами Артема Веселого, оставленными в воспоминаниях.
В середине 1930-х годов Юстицкий пишет несколько выразительных пейзажей, три из которых запечатлены на одной из фотографий рядом с «Рыбаками». В архиве автора имеется реплика старой фотографии целой стены работ Юстицкого. Во всех композициях изображена гора, иногда с усеченной вершиной, с поднимающейся вверх извилистой дорогой, домами у подножия. Круто вылепленные горы сочетаются с ломаными экспрессивными линиями. Композиции настолько оригинальны, что их трудно сопоставить с другими работами. В какой-то степени им близок «Пейзаж» 1934 года (Радищевский музей). В нем тот же широкий, урбанистически тяжелый серебристо-черный мазок, создающий упругую цветопластику и контрастирующий с белыми экспрессивными, ломаными, трепетно-прерывистыми линиями. Строго организованный образ полон динамики и подвижности. Мощные стволы деревьев с темными кронами – как естественное порождение земли, которую украшают белые дома с готически вытянутыми крышами.
Общественная деятельность и творческие искания Юстицкого шли параллельно с теоретическим осмыслением
...Распыление увидели в импрессионизме, повторили в кубизме и от всего этого распыления исчезли “станковые вещи”.
...Еще многому будет нас учить Сезанн, еще многое в нем не понято. Вот толков художественных сколько хочешь. И в разговорах, и спорах готовы создать закон, по коему идет искусство, а получается глянц.
...Хочется думать живописно, так как в истории искусства так думали, ясно, не одними образами, а красками, то есть через тон.
...Как часто приходится встречать вещи, авторы коих отыгрывались на чем угодно, кроме живописной концепции вещи.
...Шедевром все же будет покрытая плоскость одним только тоном настолько живописно, что не понадобится ни литературы, ни психологии, ни объемов.
...Цветопись – ее представлять можно не иначе как отдельный род живописи, основанный на взаимодействии цвета через фактуру вещи. При цветописи возможно создать вполне живописную вещь, руководствуясь исключительно напряжением отдельных красок. Моя будущая вещь – синяя».
Особую страницу в творчестве Юстицкого представляет его работа над иллюстрациями к произведениям Метерлинка, Флобера, Пруста, Золя. В 1936 году в письме к жене, Зое Никитичне Юстицкой, художник делится: «Я тебе писал о том, что у меня туго идет Золя, очень тяжелая тема. Если к ней подойти с точки зрения простого обывателя и взять журналы 1869-х годов – это не оправдает меня. Нужно глубоко вникнуть в содержание, осмыслить его, т. е. дать настоящий образ эпохи. Это не так просто. Я видел, как делают иллюстрации в Москве, это стало шаблоном. Я свою вещь изучаю по строчке. Образы плывут, чувствую, что Золя труженик, большой талант, все очень описательно, но не осязательно. Как бы я хотел работать над Гоголем, что-то вечное есть в нем, даже сейчас, в колесах, извозчиках, одиноких и жалких, я вижу его. Какой конкретный и обостренный ум. О Пушкине не говорю. За него взялись столько скверных художников, что его образ в их воспроизведении потеряет даже его неблекнувшую красоту». Из другого письма ей же узнаем, что иллюстрации к Золя были приняты к изданию: «Одним словом, то, что отлично прошел Золя, я был удивлен, это мои первые иллюстрации, а главное, что дан ход к Флоберу. Тут материал интереснее и книга будет лучше. Я стал признанным иллюстратором, кто этого ожидал?» С московским издательством «Академия» были заключены договоры, но в свет ни одна из иллюстрированных книг не вышла.
Среди многочисленных рисунков и набросков есть лишь небольшое количество работ, которые можно соотнести с литературными произведениями. Это акварели и рисунки тушью, пером к текстам Золя и Метерлинка.
В нескольких листах («Слепые» Метерлинка) экспрессивные тенденции получили наиболее яркое выражение. Вихреобразные линии стремятся к взаимопроникновению и взаимопрорастанию с волнообразными, спиралевидными штрихами. Наслаиваясь друг на друга, нанесенные с огромным темпераментом, они создают живое, напряженно-драматическое пространство. Обнаженные мужские фигуры с тянущимися вперед руками, летящие, ниспровергающиеся прекрасные женские и мужские фигуры с изысканными профилями, опрокинутые лошади, парящие над землей птицы создают фантасмагорию мира. Все они деформированы под напором эмоций и выразительности рисунка. В одном из листов с изображением всадников и трех фигур на переднем плане рисунок воспринимается так, словно сделан касаниями обнаженных нервов. Подобно тому, как слепой человек воспринимает мир всеми частичками своего тела, обонянием, слухом, так нервно, трепетно художник наносит точки, штрихи, постоянно прерывающиеся линии, которые с трудом собираются в цельную форму гор, лошадей, бредущих слепых с клюкой, держащихся друг за друга. Это поистине драматический образ, имеющий опосредованное отношение к литературному произведению. Пожалуй, только в иллюстрациях Юстицкий мог себе позволить полное обнажение души и открытость нервов. Но для этого нужна была большая смелость. Путь к «живой форме» все более и более сдерживала установка на социалистический реализм.
Здесь следует отметить, что экспрессионизм как творческий метод, художественный язык и мироощущение и в России, и в Германии рождался и развивался в предчувствии новых катастроф.
В 1936 году в Москве в Парке культуры и отдыха имени А.М. Горького была открыта выставка, посвященная творчеству Владимира Маяковского, на которой экспонировались графические листы Юстицкого.
Выступления Маяковского 1927 года проходили 29 и 30 января в зале Народного дворца. Он приехал в Саратов как представитель литературной группы «Левый фронт искусства» (ЛЕФ). Зал был переполнен. Поэт выступил с докладом «Лицо левой литературы», в котором высказывался за «социальный заказ» и требовал производственного отношения к стиху. Им были прочитаны известные стихи «Сергею Есенину», «Письмо М. Горькому», «Разговор с фининспектором о поэзии». Маяковского в Саратове знали и любили. «Саратовские известия» регулярно печатали его стихи, анализировали его творчество. А богатырская фигура и могучий голос поэта запомнились саратовцам еще с 1914 года, когда он вместе с Василием Каменским и Давидом Бурлюком совершали по России большое турне с целью пропаганды футуризма.
Из трех листов Юстицкого к трагической поэме «Облако в штанах», в которой все основано на метафорах, на сравнении, не все равнозначны по стилистике и накалу изобразительной канвы поэмы, которую сам автор назвал «катехизисом сегодняшнего искусства». Юстицкий не пошел буквально за текстом «четырех криков четырех частей: “Долой вашу любовь”, “Долой ваше искусство”, “Долой ваш строй”, “Долой вашу религию”».
В одном из листов молодой поэт читает стихи в городском парке. Его окружила небольшая толпа обывателей, среди которых две дамочки в шляпах, гримасничающие ротозеи. Мужчина в шляпе, взобравшийся на спинку скамьи, возмущенно размахивает руками, другой в задумчивости опустил голову. Лист выполнен тушью с незначительной подцветкой зеленым тоном. Ощущение оттиска создает фактурное нанесение краски жесткой щетиной торца кисти. Рисунок лишен привычной для Юстицкого экспрессии, линии форм округлые с незначительной деформацией, придающей персонажам некоторую карикатурность.
Более лаконичный композиционно и жесткий по рисунку лист с изображением толпы демонстрантов под большим развевающимся красным флагом. На втором плане возвышается городская застройка.
Поэты.
Размокшие в плаче и всхлипе,
Бросились от улицы, ероша космы:
<...>
А за поэтами –
уличные тыщи:
студенты,
проститутки, подрядчики.
В трактовке фигур, часть из которых экзальтированно размахивает руками, тоже присутствуют элементы экспрессивной карикатурности.
Очевидно, Юстицкого не устраивали эти работы, и он продолжает делать новые, после закрытия выставки. В 1937 году появляется еще один лист, полностью отвечающий метафорическому звучанию поэмы. Тот же городской пейзаж и демонстрация. Но в нем «мир уже определен». Изображена здесь не случайная толпа людей с размахивающими руками. Неудержимым людским потоком движется толпа из глубины улицы. Горизонтали транспарантов, лозунгов и знамен подчеркивают ее сомкнутые ряды. За городом видна гора с усеченной вершиной, то ли с крестами, то ли столбами, – так часто встречающийся мотив в его работах 1930-х. И над всем нависло огромное облако. Лист исполнен в светлых, разбеленных голубовато-розовых тонах, словно вторя Маяковскому:
... хотите –
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!
Но в этой готовности поэта к любви и заключается трагедия, о которой глубоко сказал В. Шкловский: «Миллионами кровинок был устлан путь Маяковского. Крови и поэзии столько, что она вся в небе, – может быть блистает Млечным путем, не розовым от расстояния. Все толкают поэта, все ранят его – и это люди, для которых он живет»[44]. По мнению писателя, план жизни поэта был рассчитан на то, что это все изменится. «У Маяковского никогда не было ощущения, что он будет жить в том обществе, в котором он начал жить. ... И все-таки у Маяковского революция не пересекала жизнь. Она дала ему интонацию, широту и окраску голоса»[45].
Юстицкий создает несколько глубоко психологических листов к поэме «Хорошо!». В большом акварельном листе Маяковский изображен с Блоком. Они часто бродили по улицам Петрограда, говоря о революции. В 1921 году в небольшой статье «Умер Александр Блок» Маяковский напишет: «Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы». Как-то в первые дни революции Маяковский встретил Блока в длинной солдатской шинели, греющегося у костра перед Зимним дворцом, спросил: ««Нравится?” — “Хорошо”, – сказал Блок, а потом прибавил: ”У меня в деревне библиотеку сожгли”. Вот это “хорошо” и это “библиотеку сожгли” было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме “Двенадцать”. Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие – славу ей <...>. Славить ли это “хорошо” или стенать над пожарищем, – Блок в своей поэзии не выбрал»[46].
В акварели Юстицкого высокая тонкая фигура Блока в серой шинели расположена на переднем плане. Поэт сидит на камне, слева. Курчавые светлые волосы, голубые глаза, строгие черты лица – Юстицкий очень тактично и деликатно, спокойными классическими линиями воссоздал облик поэта. Но по мере того как рука художника продвигалась дальше, набирая темп и энергию, поддаваясь чувствам и эмоциям, рисунок становился более свободным, экспрессивным. Изломы, огрубление, утяжеление сконцентрировались в кистях рук, напоминающих руки рыбаков и крестьянок его ранних работ. Типично угловатые, деформированные, совсем не блоковские кисти рук, тяжело опустившихся на колени, усиливают выражение печали и раздумья. Справа над Блоком возвышается монументальная фигура Маяковского. Он стоит в позе трибуна, широко расставив ноги, в пальто и фуражке, обращаясь к Блоку размашистым жестом сильной руки, кисть которой художник подверг такой же деформации. Между поэтами змеевидно убегающая в глубь композиции дорога, словно залитая отсветами пожарищ. Лилово-красный цвет окрасил небо, дома слева, небольшие фигурки пешеходов. Юстицкий пишет акварелью густо, словно маслом. Ее пастозный слой в сочетании с плотной черной тушью создает насыщенную, наэлектризованную атмосферу революционных событий, непростых отношений между двумя великими поэтами.
В 1937 году Юстицкий сделал еще три листа к произведениям Маяковского. Один из них к поэме «Хорошо» по композиционным ритмам близок к картине «Шуцбундовцы». Лист разделен на два треугольника. Эти отвлеченные, абстрактно-геометрические формы наполняются «живым» материалом. Справа – вода Невы, силуэт Авроры. Слева – рабочие и солдаты с винтовками, устремленные вперед, то есть справа налево соответственно острому углу треугольника, в который они вписываются. Юстицкий совершенно сознательно использует диагональное развитие форм справа налево. Это движение есть стремление к удалению от покоя: формы, стремящиеся влево, не только не тормозятся, но как будто еще «дальше увлекаются окружающею их средою»[47].
Все эти работы и один рисунок к поэме «Война и мир» поступили в 1937 году в Государственный литературный музей[48], который активно комплектовал фонд Маяковского, когда «...музейное собрание пополнилось прижизненными изданиями поэта, раритетными фотографиями, рукописями, документами, рекламными плакатами и плакатами РОСТА, первоклассными художественными работами, в числе которых рисунки, портреты, эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные самим В. Маяковским, К. Малевичем, Н. Гончаровой, М. Ларионовым, В. Татлиным, Д. Бурлюком, Д. Штеренбергом и другими. Почти все они поступили от людей из ближайшего окружения Маяковского, для которых это было проявлением личного участия в посмертной судьбе поэта»[49].
Два листа к произведениям В. Маяковского хранятся в Радищевском музее. На одном из них Маяковский стоит на фоне заводской панорамы, олицетворяющей строительство социализма. В его спокойной, даже несколько согбенной фигуре, сдержанном жесте, грустном лице словно появился отсвет блоковских сомнений, раздумий.
Другой лист «Октябрь» даже сегодня заставляет содрогнуться и удивиться смелости автора. Изображена понуро идущая группа рабочих с присоединившимся к ней в конце Маяковским. За ними возвышается живой, говорящий памятник Ленину с силуэтом Авроры. Неистово выброшена вперед рука вождя. Лица рабочих печально задумчивы, они смотрят перед собой без всякого энтузиазма, производя впечатление обреченной толпы людей. Маяковский, словно остановившись, смотрит на зрителя застывшим, вопрошающим взглядом совсем не трибуна революции... Лист с изображением Ленина и рабочих появился через год после создания большинства работ, посвященных Маяковскому, и стал роковым в судьбе художника. Юстицкий дал собственную интерпретацию образа поэта, ничего общего не имеющую с идеологическими официальными мифами 1930-х годов.
Акварели и рисунки Юстицкого к произведениям Маяковского не назовешь иллюстрациями в классическом понимании слова. Не было никаких договоров с издательствами. Они были созданы как самостоятельные станковые листы на тему того или иного произведения поэта.
Напряженная творческая жизнь художника была насильственно прервана. В 1937 году Юстицкий был репрессирован. Закрытым судом он был приговорен к десяти годам лишения свободы. Срок отбывал в Карелии, на Верра-Губе, Май-Губе, последние шесть лет – в Архангельской области. Работал на лесозаготовках, на конюшне, поваром, заведующим баней и т.п. Представление о трагическом десятилетии, конечно, далеко не полное, дают письма из лагеря. В.М. Юстицкий щадил своих близких, да ему и не позволили бы рассказать всю правду. Сохранились его письма к жене Зое Никитичне, оставшейся в Саратове с двумя дочками – Анной и Татьяной, а также адресованные в Москву ученице Галине Анисимовой: <...> Живу на новой командировке. Условия значительно хуже, чем раньше. Все это время на общих работах, тяжелых, не по силам, ежедневная непроходимая усталость...» (3 июля 1938 г.)[50]. В письмах Юстицкого отразилось незаурядное литературное дарование художника, а его мысли об искусстве, литературе и музыке отличаются оригинальностью и помогают нам глубже понять его творчество.
В лагере Юстицкий писал портреты заключенных.
Исполненные простым карандашом на листках бумаги в размер конверта, эти портреты отправлялись во многие уголки страны. Есть несколько и автопортретов. На одном из них художника трудно узнать. В телогрейке, шапке-ушанке, с тяжелым скорбным взглядом – этот рисунок сделан, очевидно, в те минуты, когда он терял надежду на пересмотр дела и досрочное освобождение. 1939-м годом датируется потрясающий по глубине трагизма портрет, в котором Юстицкий изобразил себя оплечно, с мощной головой и шеей и обращенным вовнутрь взглядом прозрачных глаз. На фоне видны то ли деревья, то ли вышки. Человеческая трагедия, ощущение жизни как страдания доведены художником до космического звучания. И это удалось создать на крохотном клочке бумаги.
Когда Юстицкого перевели в Архангельскую область, он был уже тяжело болен, по инвалидности освобожден от тяжелых работ и направлен в художественную мастерскую. Он ткал ковры и делал многочисленные копии по репродукциям. Там копировали Шишкина, Саврасова, Левитана и даже французских импрессионистов. Эти многочисленные копии украшали кабинеты начальства, отправлялись в разные города в гостиницы, столовые, рестораны. Юстицкий не мог создавать свои вещи и все более и более уходил в себя: «Живу предчувствиями, снами и пр., живу замкнуто в себе. Таким я себя не знал. Это сделали из меня условия этих лет» (3 января 1939 г.). Выстоять помогала природа. Она располагала к общению, будила мысль, заставляла действовать. «Природа имеет какую-то особую живительную силу», – ее описаниями переполнены письма художника. Большим спасением для него была лагерная библиотека. Юстицкий много читает, переосмысливая любимых писателей: Шекспира, Анатоля Франса, Тургенева, Короленко, слушает музыку (по радио) Баха и Бетховена. «Вчера... я слушал Бетховена. Его страдания сделали его музыку несравненной ни с чем. Высота его мыслей и чувств не превзойдена никем... Я испытываю огромный подъем, слушая его. Вот тебе налицо пустота разговора о технике... Для искусства нужна большая личность – Бетховены, Ван-Гоги, Микельанджелы, грандиозные личности-гиганты. И мы бываем в первую очередь потрясены их совершенно особым мироощущением, или, вернее, жизнеощущением. Здесь воедино смешиваются радости и страдания бытия в их беспредельном движении» (3 декабря 1940 г.). По его мнению, нигде так не важны, как в музыке, сила настроения и воображения. Северная природа поразила его богатством оттенков серого цвета. Его преследуют цветные сны, об одном из которых он пишет с большим волнением: «Это была несмолкаемая музыка... Я проникал в какие-то лучеобразные пространства, поразительные по цвету. Лучи шли в разных направлениях то прямыми линиями, то спирально. Цвет был как бы иллюстрацией музыки. Вибрация его была поразительно тонкая, еле уловимая, а при музыкальных подъемах все преображалось в какие-то ясные тона, почти торжественные, и только извилистые черные линии шли все время как некий лейтмотив... Описать этот сон точно я не имею возможности. Он грандиозен, это путешествие мысли, в общем, это какой-то космический сон, причем пространства грандиозны, все как-то безгранично и огромно. Но особенно интересно – это сочетание цвета с музыкой. Нет сомнения, что будет когда-нибудь такое искусство. Такого цельного впечатления я никогда нигде не получал. Значит где-то в извилинах мозга имеются зародыши соединения этих двух искусств в новый организм...» (8 марта 1939 г.).
«Я переполнен, я задыхаюсь под тяжестью тем и мыслей...», но образы чаще рисовались умозрительно, не воплощаясь на холсте или бумаге. «Я подавлен силой своего воображения. Это должно вылиться в большой художественный подъем» (17 ноября 1940 г.). «Как хочется выйти из своей физической скорлупы со всеми ее условностями, написать что-то значительное и необходимое». Но «освобождение» не приходило. «Значит для меня это время не настало...» (6 октября 1940 г.).
Многое из тех замыслов, какие возникли у него в заключении, Юстицкий так и не осуществил. Не создан триптих, посвященный Бетховену, Микеланджело и Рафаэлю. «О нем (Рафаэле. – А. С.) я думаю, как о самой жизни, весенней, молодой и нежной, очищенной от теней. В то время как в первых двух тени загораживают их величественные фигуры» (16 декабря 1940 г.).
Не осуществлены картины по четырем эскизам, олицетворяющим время суток. В одном из писем он пишет о своих замыслах: «В первой композиции “Утро” с переливами светлых розовых тонов со спокойными животными на фоне счастливого наступающего дня, 2-я композиция – “День”, я хотел дать солнечным, сильным и бодрым. Третий эскиз... это “Вечер”. И четвертый эскиз – это симфония черных и синих тонов, пронизанных белыми очертаниями. Это должна была быть наиболее сильная и страстная композиция черных фигур с белыми конями на фоне глубокой ночи, бурной и романтичной. Когда-нибудь я напишу эти вещи по этим эскизам... живопись их должна быть бурной и насыщенной темпераментом, и все четыре композиции в целом должны быть музыкальны и романтичны» (21 мая 1941 г.).
Из написанных в лагере сохранились два живописных произведения. В эскизе «Вечер» природа олицетворена в образе двух всадниц на фоне вечернего неба. Слева дама в красном платье на белом коне медленно и грациозно движется из глубины картины. Это День. Справа – зловеще мрачная всадница в синем, едва сдерживающая разгоряченного черного коня. Движение развивается слева направо, от Дня к Ночи, через передний план по кругу в глубину, создавая ощущение плавного ритма. Оркестровка цвета построена на контрасте ярких и темных тонов, передающем, однако, не столько борьбу добра и зла, сколько ее гармоническое некоторая робость и не свойственная ему манера письма. Так исполнены «Зимний пейзаж» и «Пейзаж с лошадкой». Но уже в «Автопортрете» и «Автопортрете с женой» чувствуется крепкая рука мастера. Пластично, скульптурно «вылеплены» головы, фигуры. Мазок ложится в пределах формы. Лишь некоторая тяжеловесность реалистически трактованных форм и сочетание пастозного мазка с легкими, экспрессивно нанесенными штрихами напоминают ранние работы В. Юстицкого. Облик художника суров, строг и трагичен. Он стоит рядом с женой на фоне широкой Волги. Монументальную эпичность звучания смягчает трепетная кисть руки Зои Никитичны, в легком движении приподнятая к груди, и блеск надежды в ее больших серых глазах.
Юстицкому удается создать несколько, как он говорил, «своих вещей» – жизнерадостных, ясных, счастливых, свободных по живописи. В 1948 году написан первый вариант «Весенних радостей» с мчащимся по лесу всадником и девой-нимфой. Впервые в его композициях появляется прием кулисообразно расположенных деревьев с мощными стволами и изгибающимися ветвями. Но этот классический прием он наполнил присущим ему романтическим жизнеощущением. Летящий через лесное озеро всадник с развевающимся плащом и бегущая за ним вдоль берега нимфа, также в развевающихся одеждах, тянущиеся к ним ветви, напряженный контраст лесных теней и серо-розовых просветов неба, играющие блики на стволах и ветвях – все это вызывает душевное волнение, сравнимое с тем, которое может вызвать лишь музыка, непосредственно воздействующая на наши чувства.
В этом же году был написан «Гобелен» с изображением двух всадников на переднем плане среди высоких деревьев с переплетающимися тонкими ветвями. Всадница и всадник обрисованы подвижными, прихотливо изгибающимися линиями, которые вторят ветвям деревьев. Создается впечатление, будто формы людей, животных, деревьев сотканы из одного и того же материала – светящегося, движущегося неустанно струящегося. Через общий серый тон едва пробиваются бледно-голубые, сиреневые и розовые оттенки. Мы ощущаем воздушность этой легкой красочной гаммы, объединившей буквально все, и в то же время видим, что воздух не однороден, то легок и прозрачен, то вдруг «повисает» на ветвях плотной массой. Стремительно прерывистый бег темных линий обнаженных ветвей, вплетающихся в жемчужно-малиновые переливы света и воздуха, заряженность энергией каждого мазка придают на первый взгляд безмятежно спокойному образу природы остроту и активность, скрытую напряженность. Динамическое, активное начало, присущее Юстицкому в молодости, прорывается и здесь – в постижении открывшейся ему совокупности и взаимосвязи жизненных явлений.
Литературные, мифологические и аллегорические сюжеты, которые характеризуют последний период творчества художника, сами по себе требовали большой фантазии и вымысла, и не удивительно, что все изображенное как бы растворяется, создавая впечатление «сверхпредметности».
Наиболее показательна в этом плане вторая композиция «Весенние радости» (1950) с группой танцующих и отдыхающих на фоне прекрасной природы. Весь холст как бы пульсирует, движется, переливается. Трудно даже определить общую тональность. В зависимости от освещения преобладают жемчужно-розовые, палевые тона или серебристо-зеленые и голубые. Колорит приобретает то теплый тон, то холодный. Линии переплетаются друг с другом, перекрываются светлыми и темными пятнами, точками, штрихами, формы то четки и ясны, то тонут в волнах проникающего всюду света. Линия не просто разрывается, теряясь в потоках света и тени, а вплетается в живописную ткань, уходит в глубину, вновь появляется, но уже выше и в стороне, создавая ощущение подвижного, живого пространства. Пластический характер цветового построения получает новый оттенок. Фактура становится местами более плотной, корпусной, неравномерной, энергичные удары кисти чередуются с более нежными касаниями. Все это говорит о намерении ослабить предметный характер. Игра света и цвета освобождена от подчинения форме. Связь форм уже не конструктивно-линейная, а живописная. Внутренняя напряженность внешне спокойных, монументальных форм ранних произведений («Рыбаки», «Анжелюс», «Молочница») здесь находит выход. С другой стороны, свойственная «Весенним радостям» экспрессия чувств и соответствующие им экспрессивные приемы письма не были чем– то новым для Юстицкого. Эти качества очень ярко были проявлены в рисунках (1920-1930-е), гуашах (1928-1929-е) и несколько по-другому в «Рыбаках» (1934) и «Пейзаже» (1936). Юстицкий остался верен романтическому, живому складу своей натуры. Пожалуй, во всем его наследии мы не найдем ни одного произведения, которое отличалось бы умиротворенной созерцательностью. Ничто не могло остановить бег его мыслей, чувств, успокоить ощущения. По мере того как художник набирал силы, он становился более решительным в выборе сюжетов и свободе самовыражения. Появляется целый ряд композиций на литературные, мифологические и аллегорические сюжеты: «Въезд Дон-Кихота в Саламанку», «Парки», «Бал в Версале», «Гимн любви», «Триумф Венеры». Во всех работах присутствует деформация форм, вихреобразная подвижность широких пастозных и легких, прозрачных мазков, смещение контуров, открыто декоративные и валерные сочетания красок – весь этот набор средств экспрессивной живописи, который был присущ ему и ранее. Юстицкий возвратился к своим юношеским дерзаниям и уже как зрелый мастер выразил всю силу своего дарования.
С 1970-х годов Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева целенаправленно собирает, хранит и изучает творческое наследие В. Юстицкого, оказавшего заметное влияние на художественную жизнь Саратова. В 1984 году в музее состоялась первая после долгих лет замалчивания персональная выставка, к 90-летию со дня рождения художника, а в 1992 году была организована большая персональная выставка, посвященная его столетию. В 2002 году проводились вечера памяти В. Юстицкого. В 2003 году двум талантливым художникам – Николаю Гущину и Валентину Юстицкому – Радищевский музей отдал дань памяти большой выставкой “Круг жизни и колесо истории”. Последние десятилетия произведения Валентина Юстицкого из коллекции Радищевского музея постоянно экспонируются на отечественных и зарубежных выставках, посвященных русскому искусству первой четверти XX века. Творчество яркого, талантливого художника становится достоянием широкого круга специалистов и зрителей.
Художник Валентин Юстицкий. Авт.-сост. А.Т. Симонова. Саратов. СГХМ им. Радищева, 2009
[2] Маяковский В. Собр. соч.: В 12 т. М., 1959. Т. 11. С. 125.
[3] Фовизм – течение во французской живописи начала XX века. Группа живописцев (А. Матисс, А. Марке, А. Руссо, М. Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи и др.), выступившая в 1905 году в парижском «Салоне независимых», получила ироничное прозвище «дикие». Их произведения отличались звучным декоративным цветовым построением, острым композиционным ритмом.
[4] Вырезка из газеты, хранящейся в архиве дочери художника А.В. Юстицкой.
[5] Пролеткульт – Пролетарские культурно-просветительские организации. Первый Пролеткульт возник 10-19 октября 1917 года в Петрограде. В Саратове 1-я конференция Пролеткульта состоялась в 1918 году.
[6] АХРР – Ассоциация художников революционной России – одно из крупнейших художественных объединений возникло Москве в 1922 году. Имело свои филиалы во многих городах России, в том числе и в Саратове. Члены АХРРа пытались соединить в своем искусстве классический опыт передвижников с новыми темами и сюжетами.
[7] «4 искусства» – общество художников, основанное в 1924 году в Москве. В него входили многие саратовцы, к тому времени уже ставшие крупнейшими мастерами советского искусства: П. Кузнецов, А. Матвеев, К. Петров-Водкин. Среди представителей молодого поколения был и В. Юстицкий.
[8] «Тринадцать» – группа художников-графиков, возникшая в Москве в 1929 году по инициативе Н.В. Кузьмина и В.А. Милашевского. Название объединения произошло от количества участников первой выставки. Состоялось две выставки в 1929 и 1931 гг.
[9] См.: Архив СГХМ. ВА. Ф. БРУ и РМ. Оп. 4. Ед. хр. 74. Л. 16.
[10] Сперанская Е. А. К истории проектирования памятника III Интернационала в Самаре // Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры. М., 1973. С. 460.
[11] Саррабис (орган культотдела Саратовского губернского отдела Всероссийского Союза работников искусств. – А. С.). 1921. № 22. С. 7.
[12] Каталог IV выставки живописно-пластической культуры. Саратов, 1920.
[13] Из записей В. Юстицкого // Архив А. В. Юстицкой.
[14] Выставка презантистов // Научно-художественный отдел Центропечати. Саратов, 1920, апрель.
[15] Саррабис ... С. 12.
[16] Из записей В. Юстицкого...
[17] Там же.
[18] Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. М.: Наука, 2003. С. 26.
[19] Саратовские известия. 1923. № 213.
[20] Анжелюс – вечерняя молитва.
[21] Эрманс В. «Разбойники» // Театр и музыка. 1923. № 7 (20), 6 апреля. С. 677.
[22] Пир «Разбойники» // Зрелища. 1923. № 28. С. 12.
[23] Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма. М.: Искусство, 1971. С. 64. Здесь приводятся и воспоминания М.О. Кнебель: «Вместо привычных декораций “как в жизни” – какие-то кубы, лестницы обнаженной конструкции. Вместо реальных гримов – неестественно деформированные лица, подчеркнуто экспрессивные, острые, резкие» (с. 74), а также Н. М. Горчакова: «Конструктивные декорации, изображавшие какие-то фанерные цистерны-цилиндры с откидными ступеньками, даже отдаленно или в схеме своей не могли напомнить зрителю о каком-либо месте действия» (с. 92).
[24] Марков Павел Александрович (род. 1897) – театральный критик, режиссер, педагог, доктор искусствоведения. С 1925 по 1949 г. был заведующим литературной частью МХАТ. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
[25] Сведения об отзывах на спектакль предоставлены Е. К. Савельевой (СГХМ).
[26] На литературном посту. М., 1927. № 1. С. 70.
[27] Егорова-Троицкая М. А. По выставке живописи (Радищевский музей) // Известия (Саратов). 1927. 28 января.
[28] Кашкин Владимир Иванович (1904–1938) – художник. Родился в Саратове, учился и затем преподавал в Саратовском художественном техникуме. Экспонент выставок «4 искусства». С 1933 года жил в Москве.
[29] Известия. 1925, 3 марта.
[30] Из записей В. Юстицкого...
[31] Выставка рисунков 13: Каталог. М., 1929. С. 6.
[32] Архив СГХМ. ЛФ В. М. Юстицкого. № 6.
[33] Искусство за рубежом. Выставка работ советских художников в Англии // Известия. 1930. 14 ноября.
[34] Из записей В.М. Юстицкого.
[35] Русский авангард. 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. М.: Наука, 2003. С. 295.
[36] Ройтенберг О. «Неужели кто-то вспомнил, что мы были...» М.: Галарт, 2004. С. 224.
[37] Выставка В. И. Кашкина: Каталог. М., 1941. С. 8.
[38] Известия Саратовского Совета. 1934, 3 августа.
[39] Артем Веселый – литературный псевдоним. Настоящее имя писателя – Николай Иванович Кочкуров (1899-1939). Родился в Самаре. С 1917 года – член партии. Работал в железнодорожной газете «Гудок», служил в Красной Армии, работал агитатором в агитационно-инструкторском поезде «Красный казак». Всю свою «писательскую жизнь» писал роман «Россия, кровью умытая», который постоянно дополнялся им новыми этюдами, главами, этого требовал от автора эпический характер произведения. Другое, не менее известное, его произведение – «Гуляй Волга» (1934). Артем Веселый был репрессирован и в 1939 году расстрелян.
[40] Веселая Гаира, Веселая Заяра. Судьба и книги Артема Веселого. М.: Аграф, 2005. С. 55.
[41] Веселый А. Гуляй Волга. М: Московское товарищество писателей, 1934. С. 302.
[42] Веселая Гаира, Веселая Заяра. Судьба и книги Артема Веселого ... С. 141.
[43] Там же. С. 329.
[44] Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1974. Т. 3. С. 57.
[45] Он же. Дневник. М.: Сов. писатель, 1939. С. 107-116.
[46] Маяковский В. Собр. соч ... Т. 11. С. 148.
[47] Василий Васильевич Кандинский: Каталог выставки. Л.: Аврора, 1989. С. 51.
[48] См.: «Облако в штанах». 1936. Бум., акв., тушь. 64 х 44. ГС-7096. «Облако в штанах». 1936. Бум. на карт., акв., тушь. 42 х 33, 5. Г-7095; «Хорошо!». 1937. Бум., акв., тушь. 59, 7 х 36, 2. ГС-7099; «Облако в штанах». 1937. Бум., акв., тушь. 67 х 52. ГС-7094; «Хорошо!». 1936. Бум., акв., тушь. 60 х45. ГС-7098; «Война и мир». 1936. Бум., акв., тушь. 60 х45. ГС-7097.
[49] Алексеева Л. Десять лет спустя // Октябрь. 1993. № 11. С. 11.
[50] Здесь и далее цитируются письма, опубликованные в настоящем издании.

О.Н. Червякова, Т.В. Юстицкая
Новые материалы к биографии художника В.М. Юстицкого. На основании документов из архивов Санкт-Петербурга, Гродно и Вильнюса
В статье впервые представлены биографические сведения, уточняющие год рождения художника и его обучения в учебных заведениях: Втором Петербургском кадетском корпусе, Ларинской гимназии, Первой Виленской гимназии, а также Виленской рисовальной школе И.П. Трутнева. В статье приводятся сведения о родителях В.М. Юстицкого. их происхождении, дается обоснование дворянского происхождения художника, рассказывается об обстоятельствах жизни семьи Юстицких в 1900-1910-е годы, а также сведения о жизни В.М. Юстицкого до его приезда в Саратов.
В 2013-2016 годах в архивах Санкт-Петербурга, Гродно и Вильнюса нами было выявлено более 30 документов, имеющих отношение к биографии художника В.М. Юстицкого и его близких родственников. Поиски продолжаются. Однако, поскольку обнаруженные документы позволяют обозначить существенные моменты биографии художника, исправить ошибки, закравшиеся по разным причинам, считаем возможным и своевременным обнародование своих находок. Это относится, прежде всего, к уточнению года рождения, получению образования, обстоятельствам жизни художника.
В данном докладе на основе этих новых свидетельств жизни В.М. Юстицкого мы попытались изложить последовательно факты его биографии с рождения и до приезда в Саратов.
1. Сведения о родителях художника и обоснование его дворянского происхождения
В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб.), в архивном фонде «Петроградская дворянская опека» имеются сведения о заключении брака – «Означенная в сем девица Мария Феофановна Кашина вступила в первый законный брак с поручиком Санкт-Петербургского Гренадерского полка Михаилом Юстицким. Бракосочетание совершено было в церкви Николаевского кадетского корпуса 30 апреля 1893 года» [1]. Таким образом, начиная с даты заключения брака родителями, косвенные документы свидетельствуют, что В.М. Юстицкий родился в 1894 году, а не в 1892-м, как было принято считать. Именно этот год указан в большинстве приведённых документов. Впрочем, по неизвестным причинам, и сам Валентин Михайлович в «Анкете арестованного» от 23 апреля 1937 г. указал год рождения 1892-й [2].
Однако запись в метрической книге церкви Александра Невского при Николаевском кадетском корпусе на 1894 год такова: «...рождён 7 апреля, крещён 21-го Валентин. Родители: слушатель Военно-юридической академии штабс-капитан Санкт-Петербургского Гренадёрского Короля Фридриха Вильгельма III полка Михаил Антонович Юстицкий и законная жена его Мария Феофановна, оба православные и первобрачные. Восприемники: капитан 11 ранга Александр Антонович Юстицкий и вдова поручика Мария Михайловна Юстицкая» [3].
Мать В.М. Юстицкого – Мария – родилась 30 января 1874 года в семье петербургского купца второй гильдии, старообрядца, Феофана Матвеевича Кашина [4] в его втором браке с Домной Евстратьевной («крестьянскою вдовою Московской губ. Богородского уезда Запонорской волости деревни Анциферова») [5]. При переходе в православие в связи с замужеством Мария получила отчество «Фёдоровна» [6]. В документах встречаются оба варианта.
Отец художника – Михаил Антонович Юстицкий – родился 10 ноября 1863 года в Волынской губернии [7]. Некоторое время семья жила в Воронеже, где служил отец, поручик Юстицкий Антон Иосифович [8]. В семидесятых годах XIX века, после его ухода в отставку, семья перебралась в Санкт-Петербург. В 1878 году они проживали на Конногвардейской улице, дом 51, кв. 13 [9]. Около 1880 года Антон Иосифович умер. Вдова, Мария Михайловна Юстицкая, с 1882 года проживавшая на ул. Большая Садовая, д. 125, кв. 40, с помощью «сумм инвалидного капитала» поднимала детей: дочери Надежда и Варвара («тётя Варя» из писем В.М.) [10] учились в Смольном институте, Александр стал капитаном II ранга, Алексей – инженером.
Старший сын Михаил, будущий отец художника, получил самое основательное образование. С 1875 по 1882 гг. учился в Михайловском Воронежском кадетском корпусе; в августе 1885 года по первому разряду закончил Первое военное Павловское училище с присвоением звания подпоручика и был направлен в 20-й стрелковый батальон Виленского военного округа. В апреле 1886 года переведён в Санкт-Петербургский Лейб-гвардейский полк. В 1891 году был зачислен сверхштатным слушателем в Военно-юридическую академию, которую закончил в 1894 году по второму разряду и получил квалификацию юриста [11].
В архивном фонде «Петроградская дворянская опека» (ЦГИА СПб.) имеется копия документа – «Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Временнаго Присутствия Герольдии Волынскому Дворянскому Депутатскому Собранию», на основании которого вынесено решение утвердить «Определения Волынскаго Дворянскаго Собрания 1802, марта 31, 1832, декабря 3, и 1845 годов мая 7 чисел о внесении вышепрописанных лиц рода Юстыцких в шестую часть Дворянской родословной книги». Документ подтверждает древность рода – «Предок рода сего Николай Юстыцкий в 1660 году по привилегии Короля Польши Яна Казимира был пожалован Лидским скарбником». Далее с 1668 года есть сведения о владении семьёй недвижимостью – деревнями с крестьянами [12]. Документ был выдан по просьбе поручика Антона Иосифовича Юстицкого. Таким образом, дворянское происхождение деда Валентина Михайловича, а, следовательно, и его самого, заверено документом.
2. Обстоятельства жизни семьи и учёба В.М. Юстицкого в общеобразовательных учебных заведениях
После заключения брака молодые супруги жили в Санкт-Петербурге. В апреле 1894 года родился первенец, в декабре на средства Марии Феофановны был куплен дом на Заротной ул., 15 (ныне 15-я Красноармейская ул.) в Петербурге 13. Пока в доме проводились ремонтные работы, после рождения первенца семья жила в доме матери Марии Феофановны, Офицерская ул., 30. С 1896 по 1898 гг. – в своём доме на Заротной улице, некоторое время с ними жила мать Михаила Антоновича. С 1898 года семья проживала по адресу ул. Николаевская, 59. В 1899-м Михаил Антонович ушёл в отставку. К этому времени он был капитаном, помощником присяжного поверенного, владельцем имения в Гродненской губернии, покупкой которого занимался с конца 1897 года [14].
В издании «Вся Россия» [15] Юстицкий М.А. записан как землевладелец 1474 десятин, двух фруктовых садов и водяной мельницы [16] в поместье Явор-Своротовщизна Слонимского уезда Гродненской губернии. В 1902 году начал работать его Яворский № 33 винокуренный завод (9 рабочих). Кроме того, в разные годы семья недолго владела и другими имениями – Колысковщизна Волковыского уезда Гродненской губернии и Нивище Новогрудского уезда Минской губернии [17]. Похоже, что с 1899 года по 1902 год семья с детьми жила в имении, и в последующие годы летние месяцы тоже проводили с отцом в Гродненской губернии. В «Гродненских епархиальных ведомостях» в разные годы напечатаны сведения о благотворительности семьи Юстицких М.А. и М.Ф. [18].
Будущий художник в Гродненской губернии видел всё, чего не видит ребёнок в большом городе – бескрайние поля и луга, цветущие и плодоносящие сады, стада пасущегося скота и безудержно несущихся коней... Здесь его спутниками были огромные деревья старых парков и сельских погостов, с неустанным движением и тенями их ветвей. Мужики и господа на его рисунках, такие «дореволюционные», наверное, тоже из детских впечатлений... Не к этим ли воспоминаниям относятся фразы из письма от 29 мая 1939 г.: «...небольшое количество виданного и пережитого выпукло осталось в памяти. Детство и юность с её массой мелочей, толкотни и безрассудства ярко и светло в памяти... я живо вспомнил то ощущение, которое я испытывал в детстве, когда просто воспринимаешь весну и когда в душу вливается та необъяснимая прелесть жизни, радость бытия...» [19].
С 1902 года, видимо, в ожидании рождения четвёртого ребёнка, Мария Феофановна вернулась в столицу. Вместе с сестрой мужа Надеждой и детьми проживали по адресу Измайловский проспект, 11 рота, 7. В семье было пятеро детей: Валентин – 1894 г.р., Мария – 1896 г.р., Борис – 1897 г.р. В 1903-м родилась дочь Нина [20], а позже ещё одна дочь – Варвара [21].
Вопрос учёбы художника в военных и художественных учебных заведениях в его официальной биографии освещается без ссылок и разъяснений. Звание отца – подполковник – не давало В.М. Юстицкому права поступить в элитный Пажеский корпус, где он, якобы, учился. Согласно правилам о порядке зачисления в Пажеский корпус право на поступление имели только дети и внуки лиц первых трех классов служилых людей России (не ниже генерал-лейтенанта и тайного советника), зачисление проводилось по высочайшему повелению. Как потомка нескольких поколений военных, его по традиции определили в кадетский корпус. В алфавитных списках учащихся Второго Петербургского кадетского корпуса на 1904/1905 и 1905/1906 учебный год записан Юстицкий Валентин, сын отставного подполковника, потомственный дворянин, родившийся 7 апреля 1894 г., поступивший в корпус в 1904 году, то есть десяти лет от роду [22]. В журнале на 1906/1907 учебный год фамилия В. Юстицкого вычеркнута и есть запись «уволен 1907» [23].
После «увольнения» из кадетского корпуса на следующий учебный год Валентина определили в гимназию, о чём в архивном фонде Петроградской Ларинской (четвертой) гимназии, в деле «Алфавит учеников с 1895 г.», есть лаконичные сведения – Юстицкий Валентин, род. 7 апреля 1894 г., православного вероисповедания, поступил по экзамену во второй класс 21 августа 1907 г., полупансионером [24].
Гимназия находилась на 15-й линии Васильевского острова – путь неблизкий с улицы Лахтинской, 32, где Мария Феофановна проживала с детьми. Однако в Ларинской гимназии работал муж тёти Нади Ипполит Ипполитович Перещако преподавал математику, был председателем педсовета. Семья жила при гимназии. С этой семьёй, как, впрочем, и с другими родственниками мужа, Марию Феофановну связывали тёплые отношения. Возможно, любовь к музыке у будущего художника зародилась в доме Перещако – они были членами Общества любителей-исполнителей камерной музыки, постоянными участниками мероприятий Императорского Русского музыкального общества. Сестра хозяина, Анна, закончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В музыкальной жизни семьи принимала участие и племянница Надежды, Мира Юстицкая (в будущем – оперная певица Марианна Гонич, крёстная мать их сына Владимира, ставшего солистом, виолончелистом оркестра Большого театра в Варшаве).
«У вас консерватории, ходи слушать серьёзную музыку», – в письме из лагеря от 26 июня 1938 года напутствовал В.М. Юстицкий дочь Татьяну, понимая, что интерес и любовь к музыке зарождаются в детстве и в юности [25].
В Ларинской гимназии Валентин учился один год. В документах отмечено, что он «выбыл в Первую Виленскую гимназию 14 мая 1908 г. из 3 класса» [26]. Конкретная причина и обстоятельства переезда в Вильно [27] Марии Феофановны с детьми неизвестны. Если учесть, что по Варшавской линии Северо-Западной железной дороги расстояние от Санкт-Петербурга до Гродно составляло 806 вёрст, а от Вильно до Гродно только 150, экономия финансов и времени становятся очевидными, не говоря уже о сложностях путешествия с детьми. Кроме того, в столице Марию Феофановну уже ничего не удерживало – отец и мать умерли, с другими родственниками близких отношений не было. Материальное положение семьи было нестабильным – дела в гродненских имениях шли не лучшим образом. Два имения пришлось продать, поместье Явор-Своротовщизна по частям сдавали в аренду.
В Вильне Мария Феофановна с детьми поселилась в доме № 20 на Александровском бульваре [28] (ныне ул. Альгирдо, 20). Благодаря тому, что сохранилась ипотечная книга недвижимости с планом [29], удалось установить, что дом существует до сих пор. Владельцем дома был князь Ксаверий Ксаверьевич Масальский, который с семьёй занимал второй этаж. Юстицкие снимали квартиру № 2 на первом этаже. Князь К.К. Масальский был соседом Юстицких в Гродненской губернии. Не исключено, что общались они и в Санкт-Петербурге, где князь тоже владел доходным домом и откуда в году 1903-м перебрался в Вильно [30].
Путь с Александровского бульвара до гимназии был очень живописен. С высоко расположенного района, называемого Новым городом, открывалась широкая панорама колоколен и башен костёлов и церквей, старых черепичных крыш. Улицы, спускаясь вниз, постепенно сужались, приводя пешехода в центр Старого города – к бывшему университету, упразднённому после Польского восстания 1830-1831 гг. Не в Вильне ли Валентин Михайлович впервые увидел здания в готическом стиле, стиле, который нашёл отклик в его душе. В письме от 3 января 1939 г. он пишет, что зимний лес напомнил ему готику, «строгость, какая бывает в готике и которая мне близка по своей концепции» [31].
Виленская Первая Александра I гимназия считалась престижной. Она занимала одно из многочисленных старинных зданий бывшего университета. В архивном фонде гимназии имеется список учащихся на 1908/1909 уч. г., в котором во 2-м отделении 3-го класса записан Юстицкий Валентин. Всего в классе – 46 учащихся [32]. В последующие годы В. Юстицкого среди гимназистов его класса нет.
В книге записи учениц, поступивших в Виленскую женскую гимназию ведомства императрицы Марии, имеется запись № 289 от 12 августа 1912 г.: «Юстицкая Нина, дочь полковника, православная, родилась 1903 январь 13, метр. свид. 18270, принята в приготовительный класс». Далее Юстицкая Нина записана уже как учащаяся приготовительного класса [33]. Остальные дети Юстицких по каким-то причинам могли учиться в других учебных заведениях города.
3. Виленская рисовальная школа И.П. Трутнева, художественная жизнь Вильны начала XX века
В общепринятой биографии Валентина Михайловича записано, что он учился в Виленской Рисовальной школе И.П. Трутнева. Документы этой школы не представлены в Литовском государственном историческом архиве (ЛГИА). Литовские и белорусские учёные в своих исследованиях указывают, что архив Рисовальной школы в 1915 году был вывезен в Россию (среди городов называются Самара, и, даже Саратов), но следы его на данный момент отыскать не удалось.
Вследствие отсутствия документов подтвердить или опровергнуть факт учёбы В.М. Юстицкого в школе Трутнева не представляется возможным. По нашим предположениям В.М. Юстицкий занимался в Рисовальной школе три учебных года: 1909/1910, 1910/1911 и 1911/1912-й.
Рисовальная школа, основанная И.П. Трутневым, располагалась в одном из бывших зданий университета, рядом с гимназиями. Это было одно из немногих учебных заведений, где сословные, национальные, религиозные различия значения не имели. Ограничивался только возраст поступающих – с 12 лет. Наиболее исчерпывающую и конкретную информацию о Виленской Рисовальной школе находим в издании 1908 г. по поводу 50-летия художественной деятельности И.П. Трутнева. Поскольку это практически единственный источник, на который в своих исследованиях опираются литовские учёные, приведём некоторые выдержки из упомянутого издания.
«В настоящее время виленская рисовальная школа состоит из двух отделений: мужского и женскаго, причём женские уроки распределены отдельно от мужских. Лица, желающия поступить в школу, должны подать о том прошение на имя заведующаго. Поступающие должны иметь свидетельство об окончании курса низшей школы и, кроме того, они подвергаются испытанию в рисовании».
«Обучение в школе безплатное и необходимыя рисовальныя принадлежности учеников должны быть свои. Только ученики, получившие высшие баллы за свои рисунки, получают право пользования казенным холстом, углями, бумагой, красками и пр.». «Школа разделяется на 4 курса или отделения. В 1-м отделении рисуются геометрическая тела, орнаменты, маски; во 2-м производятся рисунки гипсовых голов, слепки и кисточки; в 3-м рисунки гипсовых фигур и, наконец, в 4-м – человеческих голов и фигур с натуры, и преподается живопись с мертвой и живой натуры».
«Рисунки, исполненные учениками, сдаются заведующему для оценки их баллом, причем лучшие из них ежемесячно выставляются для обозрения в особую витрину в классе. Перевод учеников из одного отделения в другое определяется баллами, каких удостоены их рисунки. Ученики же, не оказавшие успеха в течение двухлетняго пребывания в одном отделении, исключаются из школы».
«Оканчивающие курс рисовальной школы должны выдержать испытание в перспективе линейной и теневой и в пластической анатомии, причём должны представить альбомы рисунков и чертежей по этим предметам» [34].
В учебном процессе Рисовальной школы долгие годы, что естественно, господствовал академизм. Однако, получив начальную подготовку в школе, художники (живописцы, графики, скульпторы, мастера художественной фотографии) работали в разных стилях. Молодые коллеги И.П. Трутнева, художники Иван Рыбаков, Сергей Южанин, Николай Сергеев-Коробов и другие знакомили учащихся с современными направлениями искусства – импрессионизмом, традициями восточной живописи и т.д.
В 1908-1915 годах Виленское художественное общество, в деятельности которого художники-преподаватели Рисовальной школы, принимали активное участие, ежегодно устраивало выставки не только местных мастеров, но и гостей из Варшавы, Москвы, Петербурга, Парижа, Мюнхена. Вильнюс познакомился с новыми в то время течениями в искусстве – в 1909-1910 гг. прошла, например, выставка петербургских авангардистов «Треугольник – импрессионисты», на которой можно было увидеть работы Николая Кульбина, братьев Давида и Николая Бурлюков и других. В 1914-1915 гг. была организована выставка живописи работавших в Германии экспрессионистов, виленчанки Марианны Веревкиной и Алексея Явленского.
На выставках, ежегодно проводимых Литовским художественным обществом, интересующаяся публика имела возможность увидеть живопись Микалоюса Чюрлёниса. Валентин Михайлович с его творчеством мог познакомиться, начиная с третьей выставки 1909 г., где экспонировалась 31 работа художника. В 1910 и 1911 годах состоялись следующие выставки, на которых были представлены десятки его картин. После смерти М.К. Чюрлёниса в марте 1911 года, в Вильне было выставлено около 300 картин, а с 1913 – создана постоянная экспозиция произведений этого самобытного художника. Литератор, антропософ, свидетель творческого пути М.К. Чюрлёниса, Б.А. Леман в 1916 году написал о нём небольшую статью, мысли которой удивительным образом перекликаются с позднейшими рассуждениями В.М. Юстицкого о связи музыки и живописи: «Он показал нам в своих произведениях возможность музыкального восприятия окружающего, как ритмически красочных образов, гармонизированных в последовательной смене темпов, неизменно разрешаемых в родственную тональность, обусловливаемую основным настроением.
Чтобы принять ценность его творчества, нам нужно принять эту точку зрения на окружающий мир как на музыкальное произведение, где всё движется единым общим импульсом жизни и где из самого этого движения создаются формы бытия, подчинённые единому, основному закону гармонии творческого Принципа» [35].
Другой современник, поэт-символист, философ Вячеслав Иванов написал отдельную статью о проблеме синтеза искусств у Чюрлёниса, которая тоже перекликается с мыслями В.М. Юстицкого: «Кинетическая природа музыки раскрывается нам во времени и заставляет нас забыть о пространстве. Так противоположны одна другой обе сестры: Живопись, знающая одно пространство, и Музыка, дружная с одними только временем... Впечатление зрительное является для него (Чюрлёниса) эквивалентом музыкальной темы и развивается им по аналогии её развития» [36].
Письма Валентина Михайловича раскрывают его особую восприимчивость к музыке. Он писал из тюрьмы 8 марта 1939 года: «...я видел поразительные сны. Это была несмолкаемая музыка... Цвет был как бы иллюстрацией музыки. Вибрация цвета была поразительна, тонкая, еле уловимая, а при музыкальных подъёмах всё преображалось в какие-то ясные тона, почти торжественные, и только извилистые чёрные линии шли все время как некий лейтмотив. Это какая-то музыкальная, беспредметная живопись... Но особенно интересно это сочетание цвета с музыкой. Нет сомнения, что будет когда-нибудь такое искусство. Такого цельного впечатления я никогда нигде не получал. Значит, где-то в извилинах мозга имеются зародыши соединения этих двух искусств в новый организм» [37].
Таким образом, очевидно, что именно Вильна и её художественная жизнь дали толчок к развитию интересов В.М. Юстицкого в области искусства, определили его стремление к новаторским формам работы.
Из Вильны ученики Рисовальной школы совершенствовать профессиональное мастерство уезжали в Санкт-Петербург, в Париж, в города Германии. Среди них, согласно официальной биографии, был и В.М. Юстицкий. Учёба в Вильне ставших впоследствии известными на Западе художников – М. Кикоина, П. Кременя, X. Сутина – продолжалась 2-3 года. Двое первых уехали в Париж в 1912 году, X. Сутин – в 1913-м. Было им по 19-20 лет [38]. Сведений о пребывании В.М. Юстицкого в Париже в вильнюсских источниках не сохранилось, но сопоставляя косвенную информацию (записи в домовой книге) можно предположить, что он провел там один учебный год накануне Первой Мировой войны (1912/1913).
23 октября 1912 года в Вильне от крупозного воспаления легких умер отец В.М. Юстицкого [39]. Дело о наследстве затянулось. Уведомление судебного пристава Гродненского окружного суда о продаже с публичных торгов имения Явор-Своротовщизна с фольварком Воля Слонимского уезда Гродненской губернии умершего дворянина Михаила Антоновича Юстицкого датировано 14 марта 1914 года [40].
4. В.М. Юстицкий в 1914-1918 годах
Сведения о жизни и творчестве Валентина Михайловича после возвращения из Парижа очень фрагментарны. Он вернулся в Вильну, где жила его мать с остальными детьми. У семьи Юстицких в Вильне были друзья. Из нам известных – братья Кончевские – казначей Православной консистории Игнатий Игнатьевич и надворный советник Владимир Игнатьевич, также его свояк – губернский казначей Пётр Апполонович Кушков. Дочь последнего, Анна, красавица и жизнерадостная кокетка, была ровесницей Валентина, они были влюблены друг в друга. Чтобы «не потеряться» во время войны, настояли на свадьбе.
Вскоре после венчания молодые уехали в Петроград, устроились на Васильевском острове, поблизости от родственников. Об этом остался след и в адрес-календаре Памятной книжки Петрограда на 1916 год, где записан «Юстицкий Валент. Мих. дв. – ВО. 9 л., 48» (Васильевский Остров, 9-я Линия, 48 – О.Ч.) Там же, в Петрограде, жила и сестра В.М. Юстицкого Мария, возможно под опекой дяди Александра Антоновича, капитана 2-го ранга, и его семьи, с которыми, предположительно в 1917 году, уехала в Париж.
В начале 1916 года Юстицкий с семьей уехал в Москву. В марте 1916 года, в помещении магазина на Петровке 17, состоялась организованная В. Татлиным и А. Родченко московская футуристическая выставка «Магазин», где экспонировались конструктивистские объекты. Московский исследователь авангарда Андрей Сарабьянов считает: «Юстицкий как раз впервые выставился у Татлина на выставке «Магазин». У Юстицкого есть несколько картин, подобных которым нет в нашем искусстве того времени. Это такая мощь! Вещи на этой выставке – работы 1916 года, несколько графических серий, сделанных в Москве под влиянием Татлина» [41]. В семье Юстицких в Вильнюсе сохранились документы этого периода – оригинал справки «Частного родовспомогательного заведения В. Василевского» в Москве от 19 мая 1916 года: «Жена потомственного дворянина Валентина Михайловича Юстицкого Анна Петровна в ночь на 19 сего мая в означенном заведении родила дочь» и «Выпись из метрической книги» от 10 июня 1916 года о том, что «потомственный дворянин Валентин Михайлович Юстицкий и законная жена его Анна Петровна» крестили дочь Нину в Московской Николаевской что в Хамовниках церкви. Жизнь молодой семьи складывалась непросто: «Когда продавались картины, открывались выставки, несмотря на тяжелое время, пир шел горой, дом был полон друзей. Но чаще даже на еду ребёнку не было средств», вспоминала Анна Петровна [42]. 1917-й год провели в Костроме, где в это время жили родители и старший брат Анны, а Валентин Михайлович активно участвовал в общественной и культурной жизни города. Работал в совете только что организованного Костромского художественного общества, в комиссии по созданию плакатов «Займа свободы», участвовал в выставках Общества северных художников, в развлекательных «Вечерах контрастов». В предреволюционные годы в Костроме в доме Тидена снимал квартиру общественный деятель и публицист Орест Дмитриевич Дурново. У него в 1916-1917 годах устраивались знаменитые «художественные пятницы», собиравшие цвет костромской интеллигенции. Душою их был талантливый художник Валентин Михайлович Юстицкий. В местной газете можно было прочесть анонс: «Сольные выступления. Небывалая программа. Новотаризм поэтеририк. Выявляет Валентин Юстицкий» [43].
В 1918 году родители Анны Петровны умерли от тифа, её брат Дмитрий уехал домой, в Вильно. В.М. Юстицкий по направлению А. Луначарского должен был ехать в Саратов, где ему обещали очень хорошие условия жизни, работы, он звал жену с собой. Анна Петровна не решилась довериться мужу и поехать с ним не согласилась, она с дочерью тоже уехала из России на родину. С бывшим мужем отношений поддерживать не пыталась – контакты с Советской Россией в Польше были почти преступлением, выдавала себя за вдову. Дочери, внуку рассказывала об отце и деде – художнике Валентине Юстицком, хотя до публикации 1985 году в «Литературной газете» [44] никаких новых известий о нём не было.
В возникшей после публикации переписке с А.Т. Симоновой, главным хранителем СГХМ имени А.Н. Радищева, Нина Валентиновна Юстицкая в одном из писем писала: «Из рассказов матери знаю, что в Москве каждое воскресение были в Третьяковской галерее и не одни, а часто и с друзьями и что уже тогда на выставке в Третьяковской галерее были картины Юстицкого. Знаю, что любил петь и имел приятный голос. Любил общество и умел приготовить замечательные соусы...» [45].
Анна Петровна по возвращении в Вильно работала телефонисткой на телеграфе, вместе с Ниной жила в семье своей тёти Софии Кончевской, после её смерти унаследовала дом, в нём и сейчас живут Юстицкие. Второй раз вышла замуж спустя много лет, за местного художника, Александра Ивановича Циунелиса, который в своё время учился в Париже, знал немецкий и французский языки. Он был репрессирован, попал в лагеря, в Иркутскую область, вернулся в 1955 году. Супруги даже умерли в один год, в 1968-м.
Судьба Нины Валентиновны (1916-2005) не менее удивительна. Летом 1935 года, у своих родственников, она познакомилась с лектором Кёнигсбергского университета, приехавшим в Вильно учить польский язык, что было необходимо для работы над диссертацией. Нина взялась его обучать. В декабре 1935 года он приехал снова, чтобы попросить её руки. В марте 1936-го они обвенчались в Виленском храме евангеликов-лютеран и уехали в Кёнигсберг. В октябре 1940 года, когда родился сын, уже шла война. Мужа забрали в армию. В 1945 году Нина пешком направилась домой. Восстановила себе паспорт, выправила свидетельство о рождении сына, записав его на свою девичью фамилию, изменила дату рождения, имя записала по отцу – Виктор. Отец Виктора – профессор Виктор Фалькенган (1903-1987), в надежде когда-нибудь увидеть жену и сына, не уехал на Запад, много лет работал заведующим кафедрой балтистики и славистики в Берлинском университете имени Гумбольдтов (ГДР). С 1966 года и до смерти регулярно общался со своей первой семьёй.
Виктор Викторович Юстицкий – профессор, доктор юридических наук, преподает в вузах, занимается наукой, автор ряда книг. Тамара Владимировна Юстицкая, жена Виктора – филолог, журналист, архивист.
Творчество художника и его жизнь всегда взаимосвязаны. В фактах и обстоятельствах жизни творца нередко обнаруживается ключ к новому, более глубокому и верному пониманию его творчества, раскрываются новые связи и возможные влияния. Именно поэтому продолжаем поиски новых фактов, подробностей биографии художника В.М. Юстицкого.
Авторы выражают огромную благодарность за помощь в работе директору Белорусского архива-музея литературы и искусства Анне Вячеславовне Запартыко.
_________________________
1 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб.) Ф. 268. Оп. 1.Д. 13292. Л. 2 об.
2 Валентин Юстицкий. Дело художника / Автор-сост. Боровская М.И. Саратов, 2014.
5 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 321. Л. 837.
4 В Санкт-Петербурге на Громовском старообрядческом кладбище сохранились могилы с надгробными памятниками Кашину Феофану Матвеевичу, умершему 3 марта 1884 года, 66 лет [от роду] и Кашиной Доминике Евстратьевне. [Электронный ресурс] URL: http://www. gromovskoe.ru/nekropol/view/item/id/221 /catid/З; http://www.gromovskoe.ru/nekropol/view/item/ id/220/catid/3 (дата обращения: 08.08.2016).
5 ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 13292. Л. 2.
6 Там же. Л. 2 об.
7 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 400. Оп. 17. Д. 11425. Ч. 1. Л. 210.
8 ЦГИА СПб. Ф. 268. On. 1. Д. 13292. Л. 5.
9 Петербургские адреса взяты из адрес-календарей и «Памятных книжек» соответствующих лет.
10 Художник Валентин Юстицкий / Автор-сост. Симонова А.Т. Саратов, 2009. С. 36.
11 РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 11425. Ч. 1. Л. 215 об.
12 ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 13292. Л. 3-5.
13 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 77. Д. 796. Л. 2-2 об.
14 Национальный исторический архив Беларуси в Гродно (далее – НИАБ, Гродно). Ф. 1. On. 18. Д. 444. л. 452.
15 Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный календарь Российской империи. СПб.: А.С. Суворин, 1895-1902. Т. 2. 1899. С. 1276. [Электронный ресурс] URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01005452509#?page=l (дата обращения: 22.07.2016).
16 Водяная мельница была построена в 1902 году, здание сохранилось до настоящего времени и является историческим объектом.
17 НИАБ, Гродно. Ф. 1.Оп. 18. Д. 983. Л. 233, 234-236, об.; Д. 991, Л. 53, 56, 63-64 об.
18 Гродненские епархиальные ведомости. 1904. 4 июля. № 27; [Электронный ресурс] URL: http://leb.nlr.ru/fullpage/369951; 1909. 18 янв. [Электронный ресурс] URL: http://leb.nlr.ru/ fullpage/370129/ (дата обращения: 02.08.2016).
19 Художник Валентин Юстицкий. Указ. соч. С. 49.
20 Литовский государственный исторический архив (далее – ЛГИА). Ф. 724. Оп. 1. Д. 287.
21 См.: СГХМ имени А.Н. Радищева. Отдел хранения архивных материалов. Ф. 6. Юстицкий В.М.Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 18.
22 РГВИА. Ф. 725. Оп. 53. Д. 3909. Л. 421, 502 об, 503; Д. 3910. Л. 42, 117 об., 118.
23 РГВИА. Ф. 725. Оп. 53. Д. 3911. Л. 45, 118 об., 119.
24 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 2. Д. 888. Л. 243 об.
25 Художник Валентин Юстицкий. Указ. соч. С. 42.
26 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 2. Д. 888. Л. 243 об.
27 Вильнюс – столица и крупнейший город Литвы. До 1918 – Вильна, в 1919-1939 – Вильно.
28 ЛГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2069. Л. 9.
29 Литовский Центральный государственный архив (далее – ЛЦГА). Ф. 130. On. 1. Д. 9883. Приложение.
30 ЛЦГА. Ф. 64. Оп. 6. Д. 7817, 7818.
31 Художник Валентин Юстицкий. Указ. соч. С. 46.
32 ЛГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2068. Л. 17 об.
33 ЛГИА. Ф. 724. Оп. 1. Д. 287, № 289; Д. 277. Л. 29.
34 Миловидов А.И. Академик художник Иван Петрович Трутнев: Издание по поводу 50-летия художественной деятельности И.П. Трутнева, насадителя русского искусства в Северо-Западном крае. Вильна, 1908.
35 Леман Б.А. Чурлянис. Издание Н.И. Бутковской, Петроград, 1916.
36 Иванов В.И. Чюрлёнис и проблема синтеза искусств: в сб.: Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. Москва, 1916.
37 Художник Валентин Юстицкий. Указ. соч. С. 47-48.
38 Снастный В. Художники Парижской школы из Беларуси. Минск, 2012.
39 М.А. Юстицкий был похоронен на Евфросиньевском кладбище в Вильне. Могила не сохранилась.
40 НИАБ, Гродно. Ф. 30. On. 1. Д. 472. Л. 33.
41 Коммерсантъ Власть. Журнал. 18 апреля 2016. № 15. С. 44.
42 Воспоминания хранятся в семье Юстицких, Вильнюс.
43 Объявление // Поволжский вестник (Кострома). 1917. 28 февраля.
44 Вознесенский А. Экология культуры // Литературная газета. 1985. 9 января.
45 Черновики писем хранятся в семье Юстицких, Вильнюс.
Червякова О.Н., Юстицкая Т.В. Новые материалы к биографии художника В.М. Юстицкого на основании документов из архивов Санкт-Петербурга, Гродно и Вильнюса // Открываем коллекции. XV Боголюбовские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. — Саратов, 2017. C. 196–206.
Немало талантливых и ярких художников, оставивших сколько-нибудь заметный след в искусстве своего времени, становятся легендой после долгого забвения их творческого наследия по обстоятельствам эпохи. Спустя десятилетия, постепенно проясняется существо их творческих исканий, появляется взвешенная оценка реально ими сделанного на основе сохранившейся части их художественного наследия, рассеянного по музеям и частным собраниям родной земли, а то и ряда зарубежных стран. Уточняются биографические сведения, характер художнической эволюции, её причина, последовательность этапов их творчества.
К числу таких мастеров принадлежит и Валентин Михайлович Юстицкий (1894–1951). Его зрелое творчество связано в основном с пребыванием с 1919 по 1935 и с 1946 по 1950 в Саратове, где он преподавал, активно участвовал на городских выставках, занимался декоративно-монументальным искусством, азартно теоретизировал, участвуя в жарких диспутах рубежа 1910–1920-х годов, словом, был едва ли не самым активным участником местного художественного процесса, бродильным и будоражащим его началом.
Однако в последние десятилетия постепенно высветляется и та доля его художественного наследия, которая создана мастером за пределами Саратова, – частью как упоминания о его полотнах дореволюционной поры (в сохранившихся письмах, воспоминаниях, каталогах и откликах прессы), а частью в обнаружившихся работах его московского периода 1935–1937 годов и затянувшейся почти на десятилетие лагерной поры его жизни. Они существенно различаются между собой – прежде всего, своей эмоциональной окрашенностью. Но есть нечто невытравимо «юстицкое» в его живописи и графике различных периодов, как и в жизненном поведении в разные годы. Бывают художники, сравнительно быстро нашедшие свою тему и свою особую творческую манеру. Сформировав персональную неповторимую стилистику, они развивают и обогащают её, не сворачивая с избранного пути на иные дороги. Валентин Юстицкий не был однолюбом ни в жизни, ни в творчестве. Его во все периоды художественной деятельности отличала повышенная способность впитывать и преображать разнообразные стилистические тенденции своей, необычайно богатой противоборствующими исканиями, эпохи, создавая на их основе собственную стилистику. Постичь причину персональной интонации мастера – такой разной в различные периоды жизни и вместе с тем, безусловно, единой, присущей только ему одному, – задача совсем не из простых. Суть именно его творческой личности угадать в протеизме Юстицкого довольно трудно. Бесконечные творческие перевоплощения в пределах только полутора десятилетий (1919–1932) и совсем иные картины рубежа 1940–1950-х годов с их прихотливым затейливым артистизмом, а иные из них («Парки», «Дон-Кихот») с налётом символико-гротесковой образности, воспринимались абсолютно несвязанными между собой. Ибо пропущенным оказалось десятилетие с середины 1930-х до середины 1940-х годов, нам неведомое и всплывшее отчасти не ранее начала 1970-х, когда вновь пробудился, заметно с годами усиливаясь, интерес к творческому наследию этого многообразно одарённого и необычайно активного мастера. Удивительно, как в творческом сознании одного художника умещались столь разнородные, казалось бы, несовместимые стилистические традиции.
Иные полагали, что полотна Юстицкого второй половины 1940-х созданы под влиянием художника-репатрианта Николая Михайловича Гущина, с которым он, вероятно, был знаком ещё в дореволюционную пору, а на рубеже 1940–1950-х они жили в одном доме на улице Гоголя и постоянно общались. Мне тоже поначалу это представлялось очевидным. Но когда я привёз в музей из Москвы две его небольшие картины, написанные им на фанере от посылочных ящиков в концлагере, стало понятным, что перемена в его стилистике началась задолго до саратовской встречи с Гущиным уже в 1947 году. Живописцы это разные, и произвольное их сближение объясняется только тем, что оба они были контрастны саратовской живописи той поры – и характером мотивов, и манерой исполнения, свободой от господствующей тогда стилистики. Но по мироощущению своему Юстицкий и Гущин скорее полярны. Существенно разнятся они и своей образной системой, и самим характером живописи, отношением к цвету, кладкой мазка, фактурой. Каждый из них шёл своим путём, обретая право на столь субъективную оптику.
Лагерные картины подарила Радищевскому музею ученица и верная подруга художника Гали Алексеевна Анисимова, жившая с ним в короткий московский период его творчества. Она же передала мне тетрадь с выписками из его лагерных писем, теперь уже опубликованных, где тоже проскальзывают его раздумья об искусстве, существенно отличающиеся от его записей начала 1920-х годов. Анисимова рассказывала, что в связи с его попытками выступить иллюстратором произведений французских писателей – Гюстава Флобера, Эмиля Золя, Марселя Пруста, а также бельгийца Мориса Метерлинка – Валентин Михайлович серьёзно интересовался старой и новой французской философией и литературой.
И Мишель Монтень, и Блез Паскаль, и Рене Декарт, и Вольтер с Дени Дидро и Жан-Жаком Руссо, а из новых – Анри Бергсон были интересны и нужны ему в ту пору. А из писателей и поэтов его более других привлекали Франсуа Рабле, Оноре де Бальзак, Анри Стендаль, Ги де Мопассан, Анатоль Франс, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Гийом Аполлинер. В искусстве изобразительном ему стали близки и мастера XVIII–XIX веков, а не преимущественно живописцы, графики и скульпторы авангардные, как в 1910–1920-е годы. Он увлёкся Антуаном Ватто, Никола Ланкре, Жаном Фрагонаром, Франсуа Буше, Эженом Делакруа, Теодором Жерико, Камилем Коро, Жаном Милле, Гюставом Курбе, Шарлем Добиньи, а не только импрессионистами, фовистами, кубистами, экспрессионистами, как прежде. Особенно он интересовался, праздниками Адольфа Монтичелли, скачками Эдгара Дега, разыскивал рисунки Константина Гиса, которого знал по Радищевскому музею. Его вообще потянуло к классике, своеобразно осмысляемой им. Он много говорил ей и о великих старых мастерах.
Так запомнилось его ученице. А вот Владимир Алексеевич Милашевский рассказывал в самом начале 1970-х годов о горячем увлечении Юстицкого этой поры мастерами Парижской школы, особенно живописью Хаима Сутина. На моё замечание, что само понятие «Парижская школа» и во Франции-то обозначилось не ранее середины 1920-х годов, а полотен Сутина и вовсе не было на московской выставке русских парижан в 1928 году, он насмешливо ответил, что они тогда (на рубеже двадцатых – тридцатых) знали о современном зарубежном искусстве куда больше, чем мы сейчас о нынешнем. А судьбами русских художников в Германии, Франции и даже Америки интересовались особенно. И живые контакты с ними, по его словам, в ту пору ещё сохранялись. Вообще же представить себе мироощущение Валентина Юстицкого того периода довольно трудно за отсутствием вполне достоверных свидетельств, а только при смутных биографических сведениях его ранней поры. Постепенно уточняются усилиями разных исследователей и факты реальной его биографии, начиная с документально зафиксированной даты рождения, и годы недолгой учёбы, как в России, так и в Париже, и меняющееся семейное положение. Развеиваются или ставятся под сомнение не подтверждённые ничем легенды. Уточняются его перемещения начала 1910-х и послужной список в Саратове с конца 1918 года.
Любопытно, что у Юстицкого никогда не было по-настоящему серьёзного наставника в искусстве, не было Учителя в высоком и по-настоящему творческом значении этого слова. Он мог бы повторить за Владимиром Милашевским: «Мы развивались без учителей, нас учил воздух эпохи». Быть может, отсюда столь частая смена стилевых ориентиров, характерная в целом для русского художества той поры. Но можно предположить и совсем иную причину: импульсивный склад натуры художника, склонной к переменчивости горячих увлечений, постоянному поиску и апробированию всё новых и новых путей в искусстве. Такие художники встречались во все времена и в разных странах, но первая половина XX столетия в России была для появления их очень уж благоприятна.
Раннее знакомство Юстицкого с относительно «левым» художеством в виленский период его жизни на рубеже 1900–1910-х годов носят, увы, только предположительный характер. Но исключать их полностью, конечно же, нельзя. Ибо вероятность их влияния на пробуждение интереса будущего художника к новейшим исканиям всё-таки довольно велика. Открытый всему новому, любознательный и увлечённый юноша едва ли мог пройти мимо тех, нарушавших школярские каноны исканий, которые были на этих экспозициях представлены. Но всё это, к сожалению, остаётся пока в сфере недостаточно аргументированных догадок. И будут ли они когда-нибудь подтверждены тоже, увы, весьма гадательно. Предположительны и сроки пребывания молодого художника в Париже – 1912–1913 годы. Вернувшись в Вильно, он женился и переехал к родственникам в Петроград, а в начале 1916 года перебрался в Москву, где и родилась его первая дочь.
К моменту своего появления в самом конце 1918-м года в Саратове за плечами Валентина Юстицкого было участие на разношёрстных по своему составу выставках Московского товарищества художников и салона «Единорог», выставке художников-фантастов и футуристической выставке «Магазин», организованной Владимиром Татлиным. Последняя экспозиция ознаменовалась решительным разрывом с супрематическими поползновениями Казимира Малевича, забравшего свои полотна из экспозиции. С ним ушёл и Иван Клюн. Пустующие в экспозиции места были заполнены остальными участниками выставки. Этикетка «футуристическая» достаточно условна для тогдашних левых выставок: обычно она объединяла различные течения отечественного изобразительного авангарда той поры.
В самом начале 1917 года Юстицкий с семьёй перебирается в Кострому, где была поддержка родных его супруги. Там он стал деятельным участником «Северного общества художников». Местная пресса уделяла внимание не только его произведениям и общественной деятельности (работа в Совете костромского художественного общества, созданного в 1917 году, в комиссии по созданию плакатов «Займа свободы» после Февральской революции), но также его активному участию в развлекательных «Вечерах контрастов». В местной газете «Поволжский вестник» 28 февраля можно было прочесть забавный анонс: «Сольные выступления. Небывалая программа. Новотаризм поэтерик выявляет Валентин Юстицкий».
«Начало деятельности левых художников в Костроме связано с приездом из Москвы в январе 1917 года В.М. Юстицкого, участника выставок „Магазин“ (Москва, 19 марта – 20 апреля), художников-фантастов (Москва, 1916), Московского товарищества художников (Москва, 2 февраля – марта 1916). Если на фоне московских левых художников (выставка „Магазин“) картины Юстицкого не выделялись критиками, то на фоне спокойной костромской художественной жизни Юстицкий предстал бунтарём», – сообщает один из местных газетных обозревателей. А несколько месяцев спустя, 9 мая 1917 года в той же газете другой автор недоумевает, «почему так упорно продолжают называть его футуристом»?
«Быть может, как „выявитель Новотаризма в поэтерике“ он и футурист. Но как художник, имеющий дело с красками, он ничего общего с этим течением в искусстве не имеет», – резюмирует он. И, перечисляя ряд выставленных этим мастером полотен, иронически добавляет: «Все они далеко не однородны и, на первый взгляд, можно подумать, что принадлежат разным авторам». Запомним это весьма проницательное замечание газетного обозревателя, относящееся к раннему периоду творчества Юстицкого. Интересно, что среди экспонентов одной из костромских выставок, наряду с Юстицким, был и Михаил Ксенофонтович Соколов. Его импровизационная графика 1920-х – начала 1930-х годов даёт серьёзные основания для плодотворных сопоставлений с графикой Юстицкого. К этому ещё предстоит непременно вернуться. Да и сама судьба этих очень неординарных художников, репрессированных в середине 1930-х годов, освобождённых по болезни в середине 1940-х, но не доживших до своей реабилитации, во многом схожа. В их общем жизнеощущении было немало общего, но по своему восприятию жизни, по темпераменту, как и чертами характера, они весьма различались между собой.
Если у газетных обозревателей Костромы были ещё основания сомневаться в принадлежности Юстицкого широко понимаемому футуризму, то в Саратове с первых же его шагов он воспринимался как представитель самого крайнего левого направления. Кипучая деятельность Юстицкого 1920-х годов, участие в многочисленных диспутах, стремление всюду заявить о себе, некотрая доля эпатажа, игровой раскованности создавали впечатление известной эстетической всеядности. Восприимчивый ко всякого рода веяниям, пробуя себя на самых различных путях, не имея постоянного ориентира, он никогда не обладал непреклонным упорством художников-путепроходцев или постоянством преданных им учеников, навсегда заворожённых творческими принципами своих фанатичных наставников.
Мощь односторонности Юстицкому была чужда. Он интересен противоположным: за какие-то полтора десятилетия художник успел побывать и неопримитивистом, и футуристом, и презентистом, и ахрровцем, и остовцем, и почти голуборозовцем на выставках «4 искусства», и виртуозом из группы «13». Сейчас нелегко объяснить эту всеотзывчивость талантливого живописца и графика, парадоксальность его блистательного эклектизма. Очевидна явная недостаточность изучения наследия Юстицкого только на уровне выразительных средств и технических приёмов: это не даст разгадки его стилистических пируэтов.
Необходимо понимание личности художника, вся жизнь которого была безостановочным поиском, а также специфических условий его творческого бытия в провинциальном городе. С одной стороны, его стремление прорваться на престижные столичные выставки, ни одна из которых никогда не была для него по-настоящему «своей». С другой – особый склад натуры Юстицкого: постоянная готовность к усвоению отовсюду идущих импульсов, гибкость реакций на меняющиеся обстоятельства, отсутствие фанатизма, как в дурном, так и в высоком значении этого слова, смолоду присущая ему неодолимая тяга к непрестанному иронически-игровому самообновлению. Человек он был горячий, искромётный, увлекающийся многим, чуждый стремлению создавать каноны жёсткой законченной системы, способный едва ли не одновременно обращаться к различным стилистическим течениям, чем и объясняется разбросанность его исканий. А художник – творчески очень мобильный, раскованный, абсолютно свободный в выборе стилистики, легко меняющий манеру, не скованный заученными приёмами. Он переимчиво вникал в особенности различных стилистических систем, субъективно переиначивая их на свой лад, достигая иного образно-семантического единства и персональной тональности.
По самому существу его отзывчивого творчества Юстицкого
не назовёшь стойким последователем ни одного
из тогдашних художественных течений. К нему вполне приложимы отдельные тезисы из доклада А.В. Бакушинского в ГАХНе (1929), посвящённого искусству М.К. Соколова:
«Повороты его пути очень резки, но органичны. Его увлечения влияниями – многочисленны и в своей последовательности, и в одновременности. Что этот широкий круг воздействий стирает индивидуальность? Нет».
Индивидуальность Юстицкого бросалась в глаза всем: «Это был живой, талантливый, темпераментный художник. Быстрый в своём творчестве, излишне самолюбивый, он всегда гнался за чем-нибудь новым. Отсюда и дефекты: отсутствие глубины, подражательность, неоправданные вольтфасы. Работы его, часто дискуссионные, всегда смотрелись с большим интересом и, наряду с дарованием, он обладал большим художественным вкусом. Я встретился с ним после Октябрьской революции и испытал на себе некоторое его влияние. Правда, отталкивался от него в противоположную сторону, но я и сейчас помню несколько его очень красивых пейзажей», – таким запомнился Юстицкий осмотрительному и неспешному художнику Борису Александровичу Зенкевичу.
Начинал он в Саратове, конечно же, не с красивых пейзажей. Едва ли не самой ранней из сохранившихся его саратовских работ оказался тонированный гипс «Голова киргиза» (1919), напоминающий о том, что он брал уроки скульптуры в Париже. Выразительный облик в примитивистской трактовке как бы продолжает его гуаши из серии «Рыбаки» (1916). В этот же год он взялся за масштабные монументальные росписи в клубе Пролеткульта. Тема их – героика труда, пафос революции. Ему помогали студийцы. Одна из них – Муза Александровна Троицкая (Егорова) – так вспоминает об этом: «Работа была выполнена в короткий срок в смелой, уверенной манере Юстицкого. Декоративная обобщённость, динамичность, острый рисунок характеризовали манеру Юстицкого, да и были присущи общему направлению искусства тех дней. <…> Смелость, уверенность руки Юстицкого, оригинальность композиционного решения восхищали меня, волшебная быстрота и безошибочность кисти запомнились мне на всю жизнь».
По сохранившемуся в музейном архиве любительскому фотоснимку отчётной выставки мастерской В.М. Юстицкого, проходившей с 11 по 18 мая 1921 года в художественно-практическом институте, можно судить об общей направленности его искусства этой поры: поиски законов формообразования, выявление первичных значимых элементов формы, проблемы статики и динамики, забота о самой материи живописи, отвлечённой от своего предметного носителя, лишённой какой бы то ни было изобразительной темы, построенной на экспрессии самих живописных цветофактур, которые и становились «сюжетом» этих неизобразительных работ. Шёл тренаж в освоении выразительных возможностей материала. Тогдашние эстетические его тяготения явно ближе к В.Е. Татлину, нежели к К.С. Малевичу. Но, вероятно, именно в это время Юстицкий, стремившийся выявить самое существо живописи как таковой, мечтавший о самодовлеющей живописности, записывал в тезисах к одному из своих выступлений: «Шедевром всё же будет покрытие плоскости тоном настолько живописным, что не понадобятся ни литература, ни психология, ни объёмы и формы. Такой иногда уже Матисс; несмотря на свою легкомысленность, в живописи понимает лучше других – к чему надо вести живопись».
Юстицкий, всегда стремящийся к непрерывному обновлению, никогда не был склонен канонизировать какую бы то ни было живописную систему. «Писать и прятать, и не видеть своих вещей при письме новой – вот верный приём; при нём нет давления из старых изжитых вещей, и, по крайней мере, не рискуешь повторяться; быть последовательным – вопрос иной». А вослед шёл, казалось бы, совершенно неожиданный для перманентного новатора вывод: «Настоящее новое искусство – непременный продукт вполне понятой и пережитой прежней культуры, без этого – всё крик неврастеника, а их так много». Это вовсе не означало, что художник напрочь открестился от исканий современного искусства, напротив, он был уверен, что обращение к традиции только укрепляет их: «Материальное искусство – вот девиз дня – ближе к возрождению через станок – к живописи, через опыт – к плоскости».
Традиционное и новаторское постоянно сопрягаются в его текстах: «Сезанновский объём живописен – в этом его ценность. Тициан и Сезанн – два полюса одного и того же начинания», – отмечал он в своих черновых набросках к выступлению. В его творческом сознании сближаются достижения великих мастеров с живописными исканиями текущего дня: «Хочется думать живописью, как думали ясно не одними образами, а красками, то есть через тон. Воздействие красок велико, в Ренессансе была гармония, почему же тогда анализ играл большую роль, чем теперь? Картину можно узнать по поверхности, и критерий её фактура – силой живописной, силой влияния красок при определённой живописной конструкции определяется ценность мастерства».
Произведение В.М. Юстицкого «Станковая живописная конструкция» (1921), экспонированное десятилетия спустя на выставке «Великая утопия», дало основание современному американскому исследователю утверждать, что «его картины представляют род обобщённых организационных схем потока или процесса, призванных передать беспредметную зримость богдановских систем исследований и тектологии». Шарлотта Дуглас явно основывает своё суждение на том, что Юстицкий, руководивший сначала художественной студией саратовского Пролеткульта, вероятнее всего, был хорошо знаком с основными идеями активно теоретизирующего идеолога Пролеткульта А.А. Богданова. Это предположение не лишено оснований: в тезисах Юстицкого к одному из выступлений той поры, хранившихся в семье художника, есть тому подтверждения. Во всяком случае, журнальная публикация «Очерков организационной науки» А.А. Богданова ему определённо должна была быть известна. Не случайно в «Тезисах» разговор об абстрактной живописи начинался сразу после рассуждений о тенденциях «коллективного мышления» по А.А. Богданову. Однако сводить живописные конструкции Юстицкого лишь к иллюстрированию богдановских теорий, видимо, было бы опрометчиво: его напряжённые эксперименты тех лет шли в русле широкого диапазона исканий русского авангарда конца 1910-х – начала 1920-х годов. Углубляться всё дальше в «метафизику беспредметности» Юстицкий не стал. Пришедший от изобразительности к конструкциям, он вернулся к обновлённой изобразительности, обогащённой опытом формальных экспериментов.
В Саратове Юстицкий начинал с преподавания в студии Пролеткульта, затем в художественном институте. Он был самым активным экспонентом всех местных авангардных выставок рубежа 1910–1920-х годов, занимался и праздничным оформлении зданий, выступал на многочисленных диспутах о современном искусстве, участвовал в различных конкурсах, был неизменным организатором разного рода театрализованных развлечений творческой молодёжи города: спектакли театра
«Арена ПОЭХМА» (поэт, художник, музыкант, артист), и так называемый «Шумовой оркестр», занимался разработкой самых фантастических архитектурных проектов типа движущегося моста через Волгу, или проекта памятника Борцам революции в духе «гениального прожектёрства» Владимира Татлина. Именно в ту пору Юстицкого увлекают идеи конструктивистов. И в сценографии (оформление «Паровозной обедни» Василия Каменского), и в станковых композициях он повернул на этот путь.
Но с 1922 года господствующее положение левых близилось к закату: начинался достаточно крутой антиформалистический поворот, как в столицах, так и в провинции. Один из самых проницательных художественных критиков Абрам Эфрос уже годом раньше сознавал, что «левизна политическая окончательно разошлась с левизной художественной». «Появились симптомы, что искусство возвращается к прекрасной вещности. „Беспредметничество“ тает, становясь элементарной школьной дисциплиной для молодых живописцев. Может быть, „супрематизм“ в какой-нибудь разновидности останется в мастерских нескольких искателей законов абстрактного искусства, но с его общественной ролью покончено», – утверждал он. Есть немало свидетельств тому, что ощущение кризиса авангарда, осознание несовершенства, созданного им, появилось и у самих левых живописцев, которые предчувствовали неизбежность надвигающихся перемен. Сохранились и отрывочные тезисные заметки В.М. Юстицкого, навеянные, вероятнее всего, чтением художественных изданий и саратовскими дискуссиями тех лет. Эти наброски-раздумья позволяют хотя бы отчасти почувствовать волнующие мастера творческие проблемы.
Юстицкий писал о необоснованных скачках и забегании вперёд отдельных художников, стремящихся «делать новые вещи во имя оригинальности», ради которой «большинство готово бросить и само искусство». Рассуждал о том, что супрематизм, «явление чисто живописное», должно было бы удержать и поднять живопись, а на деле с этим лучше справляется искусство личное… А потому писал он: «Супрематизм кончен и также не нужен нам кубизм Пикассо – искусству сегодняшнему от них не легче. Но школы обогатятся опытом, проверенным на деле». Уже с 1922 года чисто авангардистских выставок в Саратове не было. Речь, конечно же, вовсе не о том, что мастера «левого» искусства мгновенно поправели, но период «бури и натиска» в художественной жизни Саратова, как и всей страны, безусловно, уже заканчивался. «Выставка картин современных живописцев: Художники м голодающим», открывшаяся в мае 1922 года, уже самим названием своим («Выставка картин») знаменовала собой возврат к изобразительности, который, несмотря на наличие в экспозиции ряда беспредметных работ, обозначился достаточно чётко.
Это не означало отказа буквально всех саратовских авангардистов от поисков самоценной живописности. Только искания эти пошли иными путями. От беспредметничества мастера эти повернули к станковой картине (чаще к пейзажу или натюрморту), в которой решались в основном живописно-фактурные и пластические задачи. «Бунт материи» против засилья идей продолжал сказываться в постановке преимущественно формальных задач, в акценте на проблемах технологии, в демонстрации своей живописной кухни. Начиная с середины 1920-х годов, эти черты будут в их творчестве преобладающими. Все эти изменения отчётливо проявились и в творчестве Валентина Юстицкого, что стало заметно уже на его персональной выставке 1923 года. И это было отмечено как в предисловии к её каталогу, так и на страницах местной прессы. «Вот художник, на котором с барометрической чувствительностью отразились характерные черты и вехи нашей переходной эпохи в искусстве», – писал рецензент, предваряя свои рассуждения об этой экспозиции. К 1922–1923 годам обостряется интерес художника к собственно живописи, к изобразительным её возможностям, к архитектонике картинной формы, её ритмическому строю.
Стремление обрести новую стилистику, найти вполне современные средства выразительности, придать композиции особую весомость, а образам некую вневременную эпичность наглядно читаются в двух очень заметных и значимых в его творчестве начала 1920-х годов произведениях, отмеченных грубоватой величавостью: «Анжелюс» (1922) и «Молочница» (1923). Далеко уходя от бытовой конкретики, Юстицкий акцентирует значительность жеста, затормаживая динамику: как бы приостанавливая на миг движение, он придаёт персонажам повседневного быта не свойственную им торжественность. Они мифологизируются, обретая символическое звучание. Смысловое содержание этих полотен гораздо выше внешнего их сюжета. Добиваясь монументальности в станковых полотнах, Юстицкий приходит к выразительному силуэту, жёстко оконтуривающему форму. «Молочница» и «Анжелюс» написаны лаконично и строго, в сдержанной, почти монохромной гамме. Ритм их замедленный, тяжёлый. Собранность внутренней формы, экспрессивная «неуклюжесть» плотной живописи придают обобщённым фигурам сконденсированность и напряжённость. Насыщенность приглушённого цвета, выразительность живописной фактуры тоже работают на художественный образ, подчёркивая конструктивно-пластическую основу. Цвет неотрывен от мощно построенной формы. Эти, по сути своей станковые, полотна обладают качествами подлинной монументальности.
По-иному смотрится «Пейзаж. Канал». В нём тоже обобщённость и выразительность примитива, но красочная гамма построена на более звучных тонах. Контрастные сопоставления тёмнокрасного и охристо-коричневого в изображении городских строений с чернильно-синим в передаче воды и схематично трактованного кораблика, плотная фактура живописи заставляют вспомнить о творческих искания московских сезаннистов из числа мастеров «Бубнового валета». А его картина «Сцена за столом» (1923) из собрания Вольского краеведческого музея гротесковой огрублённостью обликов, собравшихся за столом персонажей, экспрессией их жестов и напряжённым звучание цвета уже предвещает серию больших гуашей художника середины и конца 1920-х годов. В сохранившихся ярко красочных, островыразительных своих гуашах Юстицкий даёт выход раскованной внешней экспрессии самой манеры письма, пластической и цветовой энергии. В этом обширнейшем художественном цикле метко схваченные сцены обыденной жизни, остро увиденный типаж. Все они отмечены терпким привкусом нэповского бытия – «запах времени» ощутим в них сполна. Современники чувствовали образную энергию этих листов. Облик тогдашнего городского обывателя дан в них шаржировано: гротескная колоритность персонажей акцентирована нарочитой утрированностью характерных жестов и поз. Здесь несомненна стилистическая близость немецким художникам-экспрессионистам, но нет их экстатической напряжённости, смакования уродливого или страстного его обличения. («Четыре женские фигуры», «Две женские фигуры с белым конём», «За картами», «Сцена за круглым столом», «Охотники», «Три мужские фигуры», «Четыре фигуры за столом»). Названия условные.
В немного эстетском живописном портрете своей жены, созданном в 1924 году, Юстицкий, пожалуй, ещё острее, чем А.А. Сапожников в аналогичной по сюжету работе, передал характерные приметы эпохи, определённое самоощущение, выработанную манеру держаться, умение подать себя. Но по остроте восприятия этих примет и типажной акцентированности образной характеристики модели, пожалуй, его превосходит портрет своей молодой жены, созданный два года спустя учеником и другом Юстицкого Евгением Егоровым. Труднее судить о как бы «голуборозовских» пейзажах Юстицкого, которыми он участвовал на выставках объединения «4 искусства». Судя по немногим сохранившимся фотоснимкам и по рассказам младших современников художника, композиции их были острее и конструктивнее, а живопись была более плотной и терпкой, нежели в «тающих» маревных пейзажах характерных уткинцев.
Черты характера Валентина Юстицкого ярко проявились в его педагогической деятельности. Его мастерская была особенно привлекательна для учащихся «левой» ориентации. В ней и в изменившихся к концу 1920-х условиях, пожалуй, дольше, чем во всех остальных мастерских, теплились отзвуки авангардных увлечений и дух непредуказанных свыше исканий. Там свободно и горячо спорили о классическом и современном искусстве, о различных течениях в отечественной и европейской живописи. Руководитель стремился расширить эстетический кругозор своих питомцев, стремясь, чтобы, у них, по слову К. Малевича, «нарастилась определённая культура живописных ощущений». Беседы Юстицкого о самом живописном материале, о фактуре, о качестве красочного мазка, о специфике масляной живописи, темперы, гуаши, акварели, о краске как о важнейшем факторе в создании живописного образа, запомнились многим его ученикам.
Но горячая привязанность к наставнику вовсе не означала обязательного следования его искусству. «Идите по стопам моим, говорит каждый вождь», – писал Казимир Малевич. Юстицкий был для большинства своих студентов неотразимо привлекателен, но по стопам своим их не отправлял. Занимательный и темпераментный рассказчик, он увлекал своих учеников, покровительствовал их формальным исканиям, всячески поощряя устремлённость к неизведанному, настоящую одержимость новым. Единоправным же властителем, подобно Малевичу, он по складу своей натуры быть не мог и не хотел. Этому препятствовал не только спонтанный характер его собственного творчества, но и методы его преподавания. Ученики Юстицкого, которые состоялись как художники, ни в чём не повторяли своего учителя.
«Как педагог он был своеобразен и интересен, – вспоминала Гали Анисимова. – В период моей учёбы наблюдалась такая картина: каждый преподаватель вёл свой курс с первого по четвёртый год обучения. И входя в мастерскую, можно было сразу сказать: «Это мастерская Петра Саввича Уткина» – от всех работ веяло «Голубой розой». А это мастерская Полякова – все работы напоминали Сезанна, любимого художника Полякова и т.д. А в мастерской Юстицкого все ученики были разные, все были самими собой. Юстицкий не подавлял индивидуальность, а наоборот, старался развить особенность каждого ученика. Часто у него в мастерской засиживались до позднего, вели с ним беседы об искусстве, спорили, и это было интересно». И она, как и другие выпускники этой мастерской, в своих письмах и беседах повествовали о неистощимой изобретательности и безупречном вкусе Юстицкого в постановках учебных натюрмортов и живой натуры. Они были изначально ориентированы им на нешаблонное восприятие и своеобычность вероятного их воплощения в студенческих работах.
Он поощрял поиск, настойчиво ратовал за выраженную персональную интонацию каждого студенческого холста, поощряя именно нестандартные решения, терпеть не мог равнодушного отношения к работе, всегда стремился ввести своих подопечных в эмоциональное состояние, помогающее раскрыться его личному ощущению увиденного. Хорошо запомнился рассказ одного из учеников Юстицкого. Когда он увидел, что студент пишет постановку вяло, без подъёма, без волнения, он подозвал его, сунул трёшницу и сказал: «Сгоняй на вокзал, выпей водки, разбей витрину, убеги от милиционера, а уж потом и становись к мольберту». Не столь уж простым и цельным был Юстицкий: в нём странным образом сочетались очень уж различные возможности, по-разному проявлявшиеся в различные времена, И рисовать его благостным и успокоенным не стоит: он бывал и насмешливым, колким и язвительным, порывистым, переимчивым, легко и всегда искренне меняющим свои увлечения. В Саратове начала 1920-х годов он был одним из самых ярких катализаторов местного художественного процесса, увлечённым поборником любых интересных начинаний, человеком широких, лишённых косности воззрений. Обаяние личности этого художника надолго запомнилось его ученикам. Он был человеком достаточно гуманитарно образованным, порою с выраженной склонностью теоретизировать, но импульсивное, чувственное начало явно доминировало в нём над рассудочным, чисто головным. Ему не могли пришпилить кличку «мозговик», как, к примеру, Павлу Кондратьеву.
В нашей долгой телефонной беседе известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Анатолий Михайлович Абрамов, которого интересовала проблема соотнесённости стилистики прозы Андрея Платонова и живописи Павла Филонова, неожиданно вспомнил о годах учёбы в Саратовском художественном техникуме, о той атмосфере полной раскованности, которая царила в мастерской Юстицкого. Он отмечал важность для ребят тех свободных бесед о современном искусстве, в которых ощущалось не только умение транслировать чужие идеи, но и давать им собственную оригинальную огласовку. Юстицкий представлялся ему человеком широко образованным, увлечённым, зажигающим других. Абрамов потом прислал по моей просьбе краткие воспоминания о поре его учёбы, которую пришлось оставить из-за аллергии на краски. Приложил к ним биографическое стихотворение «Дорога», где есть и строки, посвящённые своим педагогам:
«А Саратов? Разве я забуду, / Сколько я в душе понёс оттуда? / Я не знал, бывало, года сытого, / Но не раз Юстицкий и Мельситова / (Музыка их душ во мне звенит) / Будто поднимали нас в зенит». Рядом с живописцем Юстицким он называет Варвару Терентьевну Мельситову – преподавателя русского языка и литературы, замечательные уроки которой, предопределили его будущую литературоведческую карьеру. Это не случайно. В телефонной беседе профессор акцентировал и серьёзный общегуманитарный потенциал Валентина Михайловича.
Двадцатые годы – наиболее счастливая пора в жизни и
творчестве Юстицкого. К середине 1920-х наметился, быть может, вынужденный поворот
Юстицкого к бытовому
жанру, к той тематике, которая получит развитие
в полотнах ближе к середине
1930-х годов. Если об этих несохранившихся жанровых
картинах можно предположительно судить как о тенденциях, реализовавшихся уже в последующее десятилетие, то о грандиозном заказном портрете Ленина,
экспонировавшемся на выставке в 1925-м году,
можно говорить лишь на основании беглых упоминаний в прессе и рассказам его младших коллег. Единственное, что совершенно очевидно,
– к такого рода «социальному заказу»
в ту пору относились совсем
иначе, чем десятилетие спустя.
Вместе с другими саратовскими мастерами он участвовал на ряде столичных выставок. На седьмой выставке АХРРа он представил типажный портрет немца-колониста, интерьер и ряд пейзажей. Привлекательнее для него было участие в экспозициях объединения «4 искусства, где ему, если верить В.А. Милашевскому, покровительствовал Павел Кузнецов. Он выставлял там и пейзажи (на выставке 1926 и 1928 года), и жанровые композиции: «Рыбаки», «Девушки с сетями» (в 1929 году). Но, быть может, гораздо важнее для понимания значения рисунка в творчестве этого художника является его участие графическими листами в первой выставке группы «13», открывшейся в феврале 1929 года. Инициаторами её стали бывшие саратовцы, известные графики – Владимир Милашевский, Даниил Даран и косвенно связанный с этим городом Николай Кузьмин.
Участие Юстицкого на первой выставке группы «13» её признанный лидер и теоретик В.А. Милашевский объяснял следующим образом: «И, наконец, под номером 13 – Юстицкий. Наш с Дараном знакомый по Саратову. Он привёз в Москву показать своё масло. Очень сумбурное, очень модное, псевдопарижское и по-настоящему провинциальное. Ни следа жизни, ни следа наблюдения. Я запротестовал. Менее всего я хотел сколачивать группу „слов модных полный лексикон“, выстав ку пародий. Ловкий Юстицкий бросил своё велеречивое масло и сделал несколько лошадок. Они тоже фальшивы и поддельны, но так и быть, по крайней мере, они легки и коротки. Не скучны. И даже обманули Терновца, как потом оказалось». Действительно, «Скачки» Юстицкого удивляют цепкостью памяти художника, захватывают виртуозностью исполнения. Язвительный Милашевский, культивировавший темповое рисование с натуры, всегда настороженно относился к вольным импровизациям на заданную тему, сколь виртуозными они ни были бы. Но именно такого рода рисунки Юстицкого, мастерски варьировавшего подобные мотивы, поражали тогда воображение многих молодых художников. Об этом восторженно рассказывал мне в своей мастерской в Волгограде один из его учеников Алексей Иванович Бородин.
О том же вспоминала в своём письме художница Галина Гавриловна Пелевина (жена Фёдора Русецкого): «Мне посчастливилось наблюдать за его работой в 1930 году: он делал моментальные рисунки углем на 1/4 листа ватмана у нас дома. Процесс работы запомнился на всю жизнь. Тема: скачки, лошади и всадники. Юстицкий, подойдя к столу, стремительно рисовал лошадей и всадников, отбрасывал лист и тут же брался за следующий, предварительно отступив, „отбежав“ от стола шага на два. Наброски полны движения. Какой это был великолепный рисовальщик! И какая трудная судьба!»
Стремление к максимальному динамизму характерно и для других рисунков Юстицкого – стремительных набросков, ухватывающих буквально «на лету» всё увиденное, сохраняющих трепетность самой жизни. Иногда натурность их имитированная: немало рисунков чисто импровизационных, в которых острота восприятия подменяется остротой подачи. Но если в изображении скачек художник ищет графическую формулу стремительного движения, то другие рисунки, не скован ные определённой задачей, лишены этой лапидарной чёткости линий. В них больше свободы, импульсивного самовыражения художника, его творческой фантазии. Одна из статей Юрия Герчука, глубокого знатока искусства графики, называется «Стихия рисунка». О графике Юстицкого можно было бы сказать «стихия импровизационного рисунка». Юстицкому присуща была настоящая одержимость рисованием. По воспоминаниям Музы Александровны Егоровой (Троицкой) он с Евгением Васильевичем Егоровым культивировали как жизненный принцип постоянный и упорный тренаж руки и глаза, рисуя так называемые «croqis» (кроки) – мелькающие пейзажи, цирковые репетиции, воображаемые образы, овладевая предельно лапидарной и экспрессивной манерой. Это как раз то самое динамичное видение, которое питает стилевую энергию.
Увлечение виртуозным набросочным рисунком сохранилось у него навсегда, как и импровизационная манера исполнения и выработанная отточенность графической формы этих мгновенных и как бы мимолётных его набросков. Отсюда их внутренняя напряжённость при видимой лёгкости. У Юстицкого к началу 1930-х годов давно уже был выработан свой графический почерк: его подвижная и гибкая линия живо передаёт эмоциональные реакции художника. И вполне понятна реакция Б.Н. Терновца на его «Скачки» в предисловии к каталогу выставки «13»: «Этюды скачек Юстицкого – проблемы передачи движения, увлекавшие когда-то Дега, и не перестающие волновать современных художников».
Вызревшая к началу 1930-х ситуация в социально-политической и художественной жизни страны оказалась крайне неблагоприятной для мастеров такого плана. Поворот к бытовому жанру, к портрету и пейзажу, обозначившийся в его живописи середины 1920-х годов, получил развитие в известных нам его полотнах середины 1930-х: «Рыбаки», «Пейзаж» и подаренный Радищевскому музею Владимиром Спиваковым эффектный женский портрет «Печальная муза». По сохранившимся фотографиям известны и несколько иные работы этого времени: фантазийный «Индустриальный пейзаж» и «Шуцбундовцы» (1934).
Последняя картина – оперативный отклик на политическую злобу дня: в феврале 1934 года в Вене шли бои – отряды шуцбунда (соцдемократического союза) отказались разоружиться. Войска и полиция начали осаду кварталов, занятых ими. Часть их отступила в Чехословакию, а захваченных руководителей повесили. Форсированная, почти плакатная экспрессия этой картины, судя по фотографии, перекликалась с исканиями той группы живописцев ОСТа, которая явно ориентировалась на эстетические принципы немецкого экспрессионизма, хорошо знакомые Валентину Юстицкому и в чём-то близкие ему. Но судить по тоновому снимку можно только о композиции и пластике, но не о колорите.
К этому моменту ситуация в Саратове стала для Юстицкого крайне неблагоприятной. Уже с рубежа 1920–1930-х годов, в пору так называемого «Великого перелома», обозначились заметные перемены в методах и стиле руководства тоталитарной властью всей духовной жизнью страны. В провинции это принимало особенно жёсткие и часто нелепые формы. Существенно изменились порядки в художественном техникуме. Они привели к «исходу» наиболее образованных и талантливых педагогов, пытавшихся посильно противостоять административному нажиму партийных демагогов, настойчиво проводивших линию тотальной идеологизации учебного процесса, подчиняя его конъюнктурным задачам текущего момента. Юстицкий продержался дольше других, но и он в 1935-м году вынужден был покинуть Саратов, пытаясь как-то закрепиться в Москве.
Сохранились воспоминания его ученицы и близкой подруги той поры Гали Анисимовой:
«Московский его период был трагичен. Он сильно пил и потому мало работал. Да и работать было негде, так как приходилось жить за сто километров от Москвы в Кашире. Всё же в этот период он получил интересный заказ в издательстве „Асаdemia“. Иллюстрировал он две вещи французских авторов: Золя „Деньги“ и А. Франса „Суждения аббата Жерома Куньяра“. Это очень трудная вещь с отсутствием фабулы. Но Валентин Михайлович справился с ней блестяще. Я помогала ему в этих работах. Рисунки В.М. были очень своеобразны и остры, но затруднительны в печати. На просьбы упростить рисунки для печати В.М. отвечал: „Я – Юстицкий, если вам это не походит, возьмите другого художника“. Юстицкий никогда не шёл на компромисс. Работы эти закончились трагедией. Он был арестован, и иллюстрации эти не были напечатаны. Где они сейчас я не знаю. После его ареста я пыталась создать его словесный портрет стихами. Я не поэтесса, и потому привожу эти стихи только как сжатую характеристику этого человека. Так, как я его понимаю: „По старым улицам Каширы / Шагает странный человек: / На сапогах, на шубе дыры, / Но утончённый древний грек / Так не носил свои одежды. / В глазах каширского невежды / Сей человек и прост и мил / Тем, что подвыпить он любил, / Что не обидел он собаки / Не принимал участья в драке, / С народом ласков был и мил, / А сильным мира не кадил. / Он плакал на чужих могилах, / С мальчишками в войну играл, / Искал он ангелов бескрылых / И в Мире Совести искал“».
Этот благостный облик задиристого художника, который рисуется влюблённой в него ученице, весьма отличается от того, как вспоминали о нём другие. Милашевский рассказывал, как в эти годы изрядно подгулявший Юстицкий шумно «выступал» на Тверской, громко и настойчиво требуя: «Дайте мне хоть на пятачок истины». Он получил её на два «пятачка»: 10 лет лагерей. И большую часть срока отсидел.
Думается, что Анисимова догадывалась о действительных причинах его ареста: в архиве Третьяковской галереи сохранилось её письмо 1978 года, адресованное М.А. Немировской (авторитетному исследователю художественного наследия группы «13»), где она сообщает сведения о Юстицком:
«Отец его был русский дворянин, он был очень крупным юристом в старом Петербурге. Мать была дочерью миллионера Кашина. У них, кажется, был конный завод». Уже одного этого было в ту пору вполне достаточно, даже если забыть о весьма иронической по отношению к власти раскованности его разговоров. Но важно в этом письме и другое: то, о чём она говорила мне и при личной встрече в Москве: рисунки его были «затруднительны в печати», а насиловать себя, приспосабливаясь к требованиям полиграфии, Юстицкий не желал или, скорее, даже и не мог. Именно это оказалось самым главным в том, что предопределило их печальную судьбу. Такая позиция художника в мировом искусстве иллюстрации не уникальна, но достаточно редка. В тогдашней же жизненной ситуации Валентина Юстицкого она была заведомо обречённой, хотя сама по себе обладала вполне реализуемой, весьма интересной и вполне перспективой выставочной или чисто альбомной (вне книжного текста) публикацией.
В одной из бесед с Владимиром Милашевским я услышал от него, что книжные иллюстрации трудно давались ему, как и Даниилу Дарану, Татьяне Мавриной и некоторым другим мастерам из группы «13», что успешнее других с этим справлялся Николай Кузьмин. Все эти талантливые рисовальщики охотно избежали бы полиграфии, явно тяготея скорее к станковой форме иллюстрирования, решаемой в самодостаточном и достаточно обширном цикле графических листов по мотивам творчества того или иного писателя или поэта. «Иллюстрация – вовсе не обязательно графический комментарий текста, как полагал известный литературовед Б.В. Томашевский, он может быть и непроизвольным откликом на прочитанное. И достаточно свободным при этом. Всякий рисунок графичен… Но не всякий рисунок нужно считать книжно-графическим, т.е. связанным с природой книги», – справедливо отмечал Эрих Голлербах. Юстицкому был привлекателен именно путь свободного «сопровождающего» литературный текст рисования. Рассматривать его рисунки лишь в силовом поле стилистики «13»-ти не слишком продуктивно, хотя он близок им внешне, но внутренне скорее перекликается с Михаилом Ксенофонтовичем Соколовым, тоже отчасти сродным рисовальщикам этой группы. И он чаще выступал вовсе не как книжный оформитель, а как иллюстратор-станковист, избегающий какой-либо зависимости от издательских требований. Сродни Юстицкому также импровизационный характер его искусства, устремлённость не столько на выявление литературной фабулы конкретного произведения, сколько на общий эмоционально-стилистический строй поэтического творчества, акцентированная личностность его восприятий текстов и художественной манеры различных авторов.
Этих талантливых художников роднит и повышенная восприимчивость к разнородным исканиям, органично претворяемых в собственную стилистику. Уже в начале 1929 года в своём выступлении в ГАХНе, посвящённом этому мастеру, искусствовед Дмитрий Недович весьма проницательно характеризовал такую особенность Михаила Ксенофонтовича: «У Соколова ценно как раз то, что он по-гётевски честный плагиатор. С большой лёгкостью меняя направления, пробуя разные подходы, как будто примеряя разные одежды – какая больше к лицу, – он всё же внутренне целен и верен себе, постоянен в своём бродяжничестве, и в других ищет себя. И под этой сменой различных манер и костюмов мы угадываем его лицо. Может быть, оно ещё не совсем определилось, не вполне устоялось, но лицо есть, и это существенно важно…» Совсем как будто о Валентине Юстицком, который оставался собой, пробуя себя на самых разных путях. Казалось бы, следуя определённой чужой стилистике, он делал это всегда своеобразно и по-настоящему талантливо.
Судя по письмам жене, Юстицкий, вероятно, очень верил в возможность реализоваться в качестве успешного книжного иллюстратора. И все данные для этого у него как будто были. Реальность, однако, оказалась не столь лучезарной, как виделось поначалу. Его рисунки книжной графикой не стали. Он сделал ряд станковых иллюстраций по мотивам поэзии В.В. Маяковского и экспонировал их на выставке в Центральном парке культуры и отдыха. А затем включился в охватившую едва ли не всю художественную интеллигенцию подготовку к столетнему юбилею гибели А.С. Пушкина. Трудно сказать, на что надеялся художник, затевая этот обширнейший цикл, прямо или косвенно соотнесённый с пушкинской тематикой. Он создал сотни графических листов, распылённых, к сожалению, по нескольким собраниям, что разрушил цельность этого интересно задуманного цикла. Нет уверенности, что всё, что было создано им в эти годы, доступно рассмотрению, а может, не всё и сохранилось. Обширная, но целостная сюита оказалась разрозненной. И никто не знает о характере его общего замысла, как и о продуманности или случайности в последовательности создания конкретных листов.
Но коллекция, о которой пойдёт речь, насчитывает более двухсот рисунков, частью подписанных и датированных автором. Сопоставляя её с обнародованными листами других собраний, можно попытаться дать взвешенную версию вклада Юстицкого в графическую пушкиниану и вообще в отечественную графику середины 1930-х годов. Это собрание – часть коллекции живописи и графики Андрея Морозова, проживающего в селении Усть-Курдюм, в окрестностях Саратова. Листы этого цикла, каждый сам по себе, зрелищно привлекательны и интересны. «Принципы свободно го ассоциативного иллюстрирования, которых почти всегда придерживался Матисс, освобождали его от необходимости буквального следования за текстом», – утверждал Юрий Русаков в глубоко продуманном предисловии к каталогу выставки «Анри Матисс, Искусство книги». Именно такое понимание своей задачи характерно для всего этого обширнейшего цикла графических листов пушкинианы Юстицкого – стремительное и экспрессивное выражение своей реакции на прочитан ное лежит в его основе. Рисунки эти свободны от задачи визуального сопровождения конкретного текста. Это вольная интерпретация самого духа пушкинского творчества. В станковой самодостаточности этих рисунков (вне их соответствия сюжетике конкретных стихов или прозы), в их стилистическом строе легко угадать самостоятельную графическую ценность свободного и смелого высказывания художника. Ибо для Юстицкого обращение к Пушкину – не только конъюнктурная (юбилейная) возможность реализации своего творческого потенциала, но и ощущение глубинной ментальной близости их художнических натур.
Порою случается так, что происходит полнейшая несоединимость двух творческих темпераментов, – поэта или прозаика и художника-иллюстратора. Но тут случай удивительного сродства при разной масштабности и размахе творчества. Ибо художнику удалось не столько точное прочтение того или иного теста, как совпадение с Пушкиным по общему эмоциональному строю творчества. Он ведь и прожил, как говорится «без возраста», т.е. вполне по-пушкински, сохраняя душевную озорниковатую молодость при подлинной зрелости духовной. Каждого из них отличали порывистая пылкость натуры, поведенческая раскованность, соединённые с трезвой ясностью охлаждённого ума, жизненная беспечность и при этом повышенная жизнестойкость. Порывистый ритм пушкинской повседневной жизни Юстицкий на свой лад варьировал в новых исторических условиях.
«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин…», – писал Александр Блок и добавлял, поясняя: «Пушкин так легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не лёгкая и не весёлая: она трагическая». Юстицкого роднит с Пушкиным постоянная смешливость, иногда переходящая в едкую насмешливость, что сродни эпиграммам поэта. Им обоим присуще гедонистическое мироощущение, эпикурейское отношение к жизни, обострённый интерес к чувственной её стороне, любовно-ироническое восприятие эротических игр, насмешливое прославление именно природно-плотского начала любви. Оба они ярко выраженные жизнелюбцы.
«Пушкин тем и Пушкин, что граней в нём без числа» (Александр Бенуа). В поэзии, в прозе и в драматургии Пушкин решал весьма различные творческие задачи, они разнятся стилистически, эмоционально: каждое произведение обладает своей неповторимой интонацией, проникнуто особенным ритмом, но при всём многообразии собственного дарования, он всегда оставался только самим собой. Это было предопределено удивительной цельностью его жизненного и творческого мироощущения. Многогранность Юстицкого тоже не рушила цельности. Как и Пушкин, он тоже разнообразен, нередко отзвучен, свободно переимчив, легко трансформируя чужое в своё. Настойчиво повторяю: сопоставляются не масштабы их дарований и не размах творческого воздействия, а лишь особенность ментальности поэта и художника, бесспорно роднящая их. Если Пушкин мог написать Дельвигу: «Я думал стихами», то и Валентин Юстицкий «думал» о поэте, его поэзии, прозе и драматургии, его биографии своими рисунками. Мыслил визуальными образами.
«Стихотворениями для глаза» назвал талантливый искусствовед Рудольф Дуганов рисунки Константина Батюшкова. Определение, вполне приложимо к рисункам Юстицкого. Если, согласно Абраму Эфросу, пушкинские рисунки были «изобразительным дневником», то графика этого цикла – тоже ведь своеобразный дневник Юстицкого, его неотрывных раздумий о поэте, о его творчестве и его биографии. Роднит их и безудержное стремление к персональной и творческой свободе в годы решительного и ожесточённого на неё наступления самодержавной или тоталитарной власти. Как и Пушкин, Юстицкий всегда становился душою любой компании, направляя тематику общего разговора, оживляя и его и обостряя его. Как и Пушкин, он частенько «сыпал остротами», насмешничал над приятелями и коллегами, позволял себе иронизировать и над верховной властью. Словно пушкинское «да так, само как-то с языка слетело…» – это азартное требование Юстицким «истины хоть на пятачок». По воспоминания Н.М. Языкова на замечание о странном названии – «Московский английский клуб» Пушкин мгновенно назвал как ещё более странное – «Императорское человеколюбивое общество», а о Николае I заметил: «Хорош, хорош, а на тридцать лет дураков наготовил». Судя по следственному делу Юстицкого, он тоже не слишком почтительно отзывался о советском тиране. Заговорщиками оба они не стали, а остеречься и вовсе прекратить опасно насмешничать, увы, не могли. И это понятно…
Тут снова возникает имя Михаила Соколова. Жена его друга вспоминала, годы спустя, что он отличался в тот же период «резкими непримиримыми высказываниями о беззакониях в стране». Ведь и он тоже получил свой лагерный срок за осуждающие власть безоглядно откровенные и публичные высказывания, «за болтовню», если пользоваться тогдашней терминологией. А это куда страшнее, чем ссылка и прочие ограничения поднадзорного Пушкина. Так ведь и статус этих художников был в их эпоху, конечно же, совершено иной, чем в 1820–1830-е году у великого поэта, получившего широкое общественное признание уже с молодых лет. Связывает их и кровная привязанность к нему. Юстицкий мог повторить за М.К. Соколовым: «сейчас „волнуюсь“ Пушкиным…» Слова эти М. Соколов написал уже из лагеря в 1940-м году. Валентин Юстицкий творчески «взволновался» Пушкиным уже в середине 1930-х, когда широко готовился несколько странноватый юбилей: столетие гибели поэта. Годом Пушкина был обозначен заклятый 1937-й.
Видимо, «отцу народов» срочно нужен был единящий буквально всех, поистине общенародный шумный праздник, отвлекающий от разгула репрессий и вызванного ими цепенящего ужаса, охватившего множество людей.
Уже в 1936-м году развернулась по всей огромной стране подготовка к этому празднеству. Естественно она захватила и художников: готовились живописные, скульптурные и графиче ские портреты Пушкина. Особенно активно обсуждались проблемы массового издания, а также достойного иллюстрирования его произведений. Любопытно и показательно, что об этом думал и говорил талантливый живописец и график Николай Тырса, выступивший с докладом «Иллюстрация и творчество» в ноябре 1936 года на совещании художников, искусствоведов и писателей, посвящённом обсуждению новых иллюстраций ленинградских художников к произведениям А.С. Пушкина. Отмечая, что «иллюстраций к Пушкину мало» что он «почти не иллюстрирован», надеясь, что к юбилею их будет гораздо больше, докладчик при этом осуждал попытки пойти по линии вторичных, чисто биографических реалий, когда художники вместо фотокоров едут в Михайловское, Тригорское и по прочим пушкинским местам. Тырса настаивал на необходимости обратиться к существу пушкинского художественного творчества, к необычайно сложным и запутанным проблемам его общественной и частной жизни.
«Почему бы не взяться за само творчество Пушкина? Почему бы не посотрудничать – осмелюсь так выразиться, – с ним, с Пушкиным? Мне кажется, например, что подлинное переживание Пушкина можно получить вместо Михайловского и Тригорского, в томе его писем, в этой замечательной книге, которую держишь в руках, как кровоточащее сердце, и по прочтении которой уже навсегда думаешь о Пушкине, как о родном человеке. Мне кажется, что весь зрительный материал, который целесообразно складывается в образ, художник впитывает постоянно, а не только тогда, когда срисовывает стул, на котором сидел Пушкин». «Конечно, иллюстрирование – не пересказ текста. Текст любого автора должен пониматься свободно. <…> Дело не в том, как художник трактовал текст, а вышло ли это художественно, передал ли автор своё отношение к тексту». <…> «Мне кажется, гораздо плодотворнее и ближе к цели вести иллюстрирование Пушкина путём серии рисунков, в которых вдруг где-то может проглянуть подлинный Пушкин».
Трудно сказать, знали ли Валентин Юстицкий или тот же Михаил Соколов эти рассуждения ленинградского художника. Но, видимо, принципы свободного иллюстрирования по мотивам творчества поэта или писателя были, как говорится, «у времени в крови». Уже отмечалось рассуждение Ю.А. Русакова о циклах свободных иллюстраций Анри Матисса. Не менее наглядный пример приводит другой современный исследователь М. Климова, повествуя о творчестве швейцарского мастера Ганса Эрни, который был гораздо моложе не только М.К. Соколова, но и В.М. Юстиц кого. Живя и работая в совершенно иных условиях, он, естественно, мог позволить себе быть ещё своевольнее их в обращении с любым текстом. «От Эрни было бы напрасно требовать буквального и почтительного иллюстрирования книги. Он редко удовлетворялся ролью комментатора – хотя бы и проникновенного – авторского текста. Его привлекает другой тип иллюстрации, существующий на равных правах с текстом. Эрни предпочитает создать цикл, живую последовательность образов, связанных друг с другом теснее, чем с литературным повествованием. Его иллюстрация не столько воплощает литературный образ средствами пространственного искусства, сколько создаёт ему свободную аналогию. Его рисунки живут сами по себе и вступают в контакт с текстом лишь изредка, когда этого требует логика графического цикла. Но эти мгновенные соприкосновения литературы и графики порой стоят более тесных связей – они вскрывают внутреннее единство текста и рисунков очевиднее, чем это было бы при их непрерывном сочетании».
Часто пишут: имя рек такой-то – художник и человек. О Юстицком следовало бы всегда говорить в обратном порядке: «Человек и художник». Акцентирую именно личные качества его натуры: вне контекста его жизни само творчество Юстицкого-художника не понять. И Пушкина тоже: «Переживания Пушкина-человека оказывали исключительно мощное воздействие на его творчество», – отмечал в своей биографии поэта Ю.М. Лотман. Творчество того и другого очень разнообразно и вместе с тем удивительно едино. Не случайно оба они исповедовали абсолютную свободу жизненного поведения и – как её результат – полную раскрепощённость творчества. Как и у Пушкина, душевная молодость художника затянулась, пожалуй, до самой кончины. И авторская интонация поэта, звучащая в его стихах, – это и собственная его интонация, органически отзвучная поэтовой. Неведомы его высказывания о Пушкине, но думается, они звучали бы близко к определению М.К. Соколовым своего отношения к поэту поздней осенью 1940 года: «Пушкин – мой любимец, „мой жизненный спутник“ и, наконец, Пушкин – моя мера». Отсюда и погружённость его воображения в реалии пушкинской поры, его поэтику, и своевольная динамичная манера изображения, и его ритмика близкая звучанию пушкинских стихов.
Книга Абрама Эфроса о рисунках Пушкина, вышедшая в 1933 году, инспирировала, увлечение ряда советских графиков его раскованно-непроизвольной манерой рисунка. Неповторимое обаяние ритмики и стилистики этих как бы случайных перовых набросков оказалось очень заразительным. Широкое распространение в те годы импровизационного и острого перового рисунка непреложно об этом свидетельствует. Естественно, это сказалось достаточно ярко в иллюстрационной графике пушкинской поэзии: «Думать о пушкинских стихах – значит вызывать в памяти его графику, так же, как рассматривать его рисунки, – значит мыслить о его поэзии», – утверждал в своей книге Абрам Эфрос.
Это сродство хорошо почувствовал Николай Кузьмин в цикле иллюстраций к пушкинскому роману в стихах: «Дерзновенная мысль проиллюстрировать Евгения Онегина зародилась у меня осенью 1929 года в Саратове, когда я был на курсах переподготовки комсостава. Там, в „военном городке“, каждый вечер я уходил в библиотеку и читал „Евгения Онегина“. Там-то я прочитал впервые по-настоящему этот роман». В стремлении этого художника освободиться от наработанных штампов в трактовке романа ему помогали и профессиональные пушкинисты (прежде всего, М.Я. Цявловский), а также публикации В.В. Вересаева «Пушкин в жизни», Н.С. Ашукина «Живой Пушкин».
Сознательно или нет, но он не упомянул ни книгу Абрама Эфроса, ориентирующую его на стилистику пушкинского рисунка, ни подсказки своего приятеля Владимира Милашевского – иллюстрировать именно лирические отступления. Впрочем, и книга Абрама Эфроса, и идея Владимира Милашевского возникли несколько позднее, когда работа над циклом иллюстраций к стихотворному роману уже шла. И к тому времени художнику, по его словам, уже открылся автобиографический смысл многих строк пушкинского романа, а потому и обращение к рисункам поэта, и к его лирическим отступлениям, занимающим в нём очень уж значительное место, обрели для иллюстратора особое значение. Они помогали вернее передать и душевно-духовный склад Пушкина, и приблизиться к стилистике и ритмике его поэзии и графики. Не зря бытует представление, что главным героем этого стихотворного романа стал сам его автор.
Художников-иллюстраторов нередко сравнивают с музыкантами-исполнителями, с переводчиками поэзии и прозы, ибо у всех стоит проблема художественной интерпретации творчества других авторов. Здесь уместно вспомнить размышление Корнея Чуковского о незыблемых принципах художественного перевода: «Отражение личности писателя в языке его произведений и называется его индивидуальным стилем, присущим ему одному. Поэтому я и говорю, что, исказив его стиль, мы тем самым исказили его лицо». Говоря о «языке», следует трактовать это понятие не только как речь, но и как темп её и ритм, эмоциональную окраску, потенциональную метафоричность и символику, то есть понимать его не только как орудие повседневного общения, а именно как язык искусства. И не случайно книга о работе переводчиков названа им «Высокое искусство». Творчество талантливых иллюстраторов тоже вполне заслуживает такого признания.
Но тот же К.И. Чуковский одну из глав этой книги озаглавил: «Перевод – это автопортрет переводчика». Так и иллюстратор, стремясь не исказить творческую личность писателя или поэта, не должен прятать и собственное своё художническое лицо. Именно это отличало творческую манеру Юстицкого, который при всей своей отзывчивости и восприимчивости к чужому творчеству всегда был обострённо-субъективен в случаях претворения его в творчестве собственном. Это всегда было «сотворческое сопереживание», если воспользоваться терминологией Михаила Бахтина. Его раскованная и дерзкая фантазия была сродни пушкинской свободе воображения. Однако, как художник острой наблюдательности, он и в фантазиях своих верен увиденному и запомнившемуся. Этого требовала передача особенностей образности вербальной образностью визуальной с её наглядной, осязаемой глазом конкретикой.
«Тридцатые годы, предшествовавшие 1937-му юбилейному пушкинскому году, были отмечены особым подъёмом в нашем пушкиноведении. Нет нужды припоминать все названия вышедших тогда посвящённых пушкинской теме книг, статей, рассказов, фильмов, картин, рисунков, – многие из этих трудов вошли в Золотой фонд нашей культуры», – отмечал Н.В. Кузьмин. К нему постепенно приобщается и графическая пушкиниана Юстицкого. Но это осложнено тем, что обширнейший цикл его пушкинских рисунков распылён по различным коллекциям и, вполне вероятно, не все они уже обнародованы и доступны обозрению. Но всё же, относительная полнота их, сосредоточенная в коллекции А.С. Морозова, о которой уже шла речь, позволяет сделать некоторые предварительные предположения.
Уже говорилось о том, что на многих рисовальщиков и не только иллюстраторов Пушкина, начиная с середины 1930-х годов, оказали существенное воздействие опубликованные рисунки великого поэта с его черновиков. Глубокий и проникновенный исследователь пушкинской графики Абрам Эфрос, искренне восхищённый «летучими» рисунками поэта, писал: «В его рисунках не было ничего принудительного и важного. <…> Они обладали лёгкостью внезапной игры пера и воображения…» «Он рисовал, в самом деле, легко и бездумно. Он рисовал беззаботно. Он рисовал, как хотел бы писать. Он не усердствовал, не искал, не отделывал». Прямая перекличка с ними в графике Валентина Юстицкого.
Природу Пушкинского рисунка объяснить нелегко. В конце 1980-х довелось рецензировать замечательный альбом «Рисунки русских писателей XVII–XX века». Довольно точно сформулировал причину этих затруднений составитель альбома и автор текста к нему Рудольф Дуганов: Пушкинские рисунки «читать» несравненно труднее, чем рисунки Жуковского. Не только потому, что он делал их для себя, но и потому, что его контрапункт гораздо богаче и, главное, идёт на большей ассоциативной глубине». Об этом же задолго до него предупреждал и Абрам Эфрос: «Пушкинский рисунок – дитя ассоциации <…> иногда очень далёкой, с почти разорванной связью». И о том же: «Самое глубокое в его поэзии проецировано уловленным и запечатлённым в стихах тёмной творческой стихии»: «Среди бессвязного маранья/ Мелькали мысли, примечанья, / Портреты, буквы, имена / И думы тайной письмена». О рисунках Пушкина и сопутствующих его стиху ассоциациях Эфрос замечает, что они «дополняют варьируя, развивая образные возможности стиха». Стало быть, отражают, по сути, самую ткань его поэзии. Критик отмечает их разнообразие: от почти сюжетных до лишь намекающих на мотив стихотворений – «от изображений, близких иллюстративности, до образа, соединённого легко усваемой ассоциацией».
Но ещё в пушкинские времена просвещённые люди верно понимали назначение иллюстраций. Не фиксируя фабулы, художник призван не повторять литератора визуально, а «домолвить карандашом то, что словами стихотворец не мог или не хотел сказать», – утверждал А.Н. Оленин, который с 1817 стал президентом Императорской Академии художеств. Такой подход открывал почти неограниченные возможности для свободной интерпретации поэтического текста, а стало быть, иллюстратор получал законное право на посильное сотворчество с писателем или поэтом, возможность быть оригинальным мастером в художественно-образном претворении текстов, а не просто ремесленным оформителем книг. Именно к этому всегда упорно стремился Валентин Юстицкий.
Сугубо сюжетный подход к пушкинской поэзии не слишком плодотворен, ибо, по очень точному замечанию Абрама Эфроса, «в иных его созданиях сила гармонии так велика, что смысловые ряды едва сквозят под музыкальным очарованием его фонем». А ведь это ставит иллюстратору пределы любой наглядно-семантической интерпретации: музыку стиха, которая апеллирует к подсознанию, никакой внешней фабулой не уловить.
Любопытно, что владелец коллекции, самочинно публикуя эти рисунки, проделал поистине титаническую работу в попытке сопроводить их созвучным поэтическим текстом. Он множество раз от корки до корки перечитывал десятитомное Собрание сочинений А.С. Пушкина, добывал и тщательно просматривал немало биографических книг, посвящённых различным этапам жизни поэта, многочисленные мемуарные и эпистолярные источники, хотя бы отдалённо связанные с ним. Нельзя сказать, чтобы кропотливый труд его был совсем уж напрасен: всё-таки десятки листов обрели вполне достоверную привязку к конкретным пушкинским текстам. Какое-то количество рисунков получило привязку вероятную, хотя и довольно сомнительную. Значительная же их часть оказалась неприкрепляемой ни к пушкинским поэзии, прозе и драматургии, ни к сколько-нибудь достоверным перипетиям его земного бытия. Да ведь и у самого Пушкина, согласно Эфросу, в редких рисунках ощутим «иллюстрационный характер», и существует множество сюжетов «не поддающихся отожествлению». Ведь вовсе не сюжетные рисунки выявляют то, что критик определял, как «эмоциональную первооснову творчества» гениального поэта. Задача иллюстратора – передать не столько сюжет, как стилистику литературных произведений, выразить преобладающую общую эмоциональную атмосферу произведения или всего творчества автора.
Юстицкий шёл именно таким путём. Его рисунки – свободные размышления и импровизации по поводу текстов или жизни поэта, в которых нет заботы о прямой связи с конкретным текстом или жизненным событием. Может быть, подобного мотива у Пушкина и вовсе нет, но он пушкинский по духу, пушкинский эмоционально, вполне соответствующий ментальности поэта. У Пушкина художник искал нечто созвучное собственным своим чувствам. И экспрессия пушкинского стиха оживает в экспрессии графических листов Валентина Юстицкого. Обнаружить содержательно-смысловые связи между конкретными рисунками и текстами Пушкина не всегда возможно. Ведь то, что именуют «эмоциональным содержанием», пересказать буквально едва ли вообще реально.
Здесь, пожалуй, снова стоит обратиться к опыту М.К. Соколова, ибо, в отличие от Юстицкого, сохранились не только циклы его иллюстраций и научное осмысление принципов его работы с текстами, но и собственные раздумья обо всём этом старшего мастера, опубликованные годы спустя исследователями. Перекличка этих талантливых художников оказывается важной и для понимания той атмосферы, в которой они творили, и для осмысления существа их подхода к иллюстрированию. Михаилу Соколову, как и Юстицкому, тоже оказывается более важным не столько выявление литературной фабулы конкретного произведения, сколько общий эмоционально-стилистический строй творчества писателя или поэта.
Т.А. Лебедева в статье «М.К. Соколов – иллюстратор», рассуждая об обширнейшем цикле рисунков этого мастера к различным произведениям Диккенса, в которых нет точного совпадения с конкретными текстами, ибо они вовсе не были ориентированы на то или иное издательство, приводит фразу из письма этого мастера Н.В. Розановой (март 1945 г.), воплощающую, по её мнению, его творческое кредо художника-иллюстратора: «В иллюстрировании писателя важен дух его, а не протокольность момента». Исследовательница цитирует и соколовское рассуждение из другого его письма той же Н.В Розановой и тоже 1945 года, но уже не марта, а первых дней мая. Речь он ведёт о тех рисунках, когда. отходя далеко от конкретного текста, он подписывал листы просто – «К Диккенсу»: «Ведь для меня всегда дорого в работе – суть вещи – если это Диккенс, то изображение воспринималось бы как Диккенс, хотя момента такого во всём Диккенсе не было. <…> Я считаю это единственно верным решением», – писал он. Сходный принцип иллюстрирования в пушкиниане Юстицкого.
Это невольно почувствовал и Андрей Морозов, подбиравший конкретные тексты к его рисункам. Иногда их оказывалось от двух-трёх до семи к одному листу, ибо в основном они – к Пушкину вообще, как у М. Соколова – к Диккенсу. Давая в своей публикации ко множеству рисунков Юстицкого по несколько пушкинских текстов, коллекционер явно не притязает на категоричности своих интерпретаций конкретного рисунка. Прямой соотнесённости с любым из этих текстов в таких рисунках чаще всего нет или обнаружить их пока не удаётся, а потому попытки их буквально расшифровать их, видимо, обречены на неудачу.
В сущности, так обстоит дело и с упорными попытками разгадать скрытый смысл буквально каждого из пушкинских рисунков. Особенно настойчиво, превращая исследование в расследование (дознание), иные авторы пытаются непременно определить буквально каждый из множества его графических портретов, забывая проницательное эфросовское предупреждение: «К миру современников Пушкин прибавил облики людей, созданных его графической фантазией. <…> Он общался с ними, как с живыми». О том же и замечание Сергея Гессена, уважительного критика этой книги А.М. Эфроса: «Переоценка значения пушкинской графики влечёт за собой ложные и ничем не обоснованные выводы, приводя подчас к подмене документальной биографии поэта продуктами творческого воображения исследователя».
А поэтому, находясь на нынешнем уровне изучения пушкинианы Юстицкого, и не стоит давать конкретные названия множеству подобных его рисунков, ограничиваясь указанием: «К Пушкину», не отягощая себя произвольными домыслами. В сущности, другие коллекционеры, публикуя рисунки этой серии, так и поступают, давая или в подписи безликое «Без названия» или визуально и так очевидное: «Пушкин и барышня с букетом», «Пушкин и всадница», «Пушкин и обнажённая», «Пушкин, дама и гусар» и тому подобное.
Ещё в 1938 году, незадолго до ареста, у Михаила Соколова возникали те же самые проблемы с издательствами, что у Юстицкого. Но и освободившись по болезни из лагеря, художник, оказавшийся к труднейшей жизненной ситуации, всё же оставался верен себе: «Я хочу не только петь, я хочу петь свою музыку» (сентябрь 1945 г.). Тоже прямая перекличка двух талантливых мастеров, умученных тоталитарной системой физически, но душевно так и не сломленных. И Соколов, как и Юстицкий, в какие-то моменты лагерной жизни получал возможность писать на толстой фанере пейзажи натюрморты и «скачки». И, как у Юстицкого, графика его – вовсе не подспорье живописи, она самодостаточна, а не служебна. Как и Юстицкий, М. Соколов полюбил живопись Адольфа Монтичелли, также как он, увлечённо изображал летящих всадников и вообще лошадей. И ему были присущи дар импровизации и техническая виртуозность, стремление визуально воплощать литературные импровизации. Натуру каждого из них отличало сочетание чувственно-эмоционального начала с живым активным интеллектом, стремление в иллюстрациях не только к внешней маэстрии, но и к угадке эмоциональной заряженности авторского текста.
Есть ещё одна черта, роднящая этих двух талантливых мастеров, успешно работавших в живописи и графике, – это богатство и смелость воображения. Серьёзный и глубокий искусствовед Н.М. Тарабукин, в прошлом ученик М.К. Соколова, в своём докладе в ГАХНе «Колористичность и живописность в работах художника Михаила Соколова» (1929) рассказал о том, что в живописной серии «Старая Москва» была «изображена приземистая, сросшаяся с землёй ветхая церковь, окрашенная в какой-то трудно определимый красноватый цвет. Какая из церквей изображена»? – спросил он художника?
Тот лукаво посмотрел и ответил: «Московская! Ведь это синтез. В действительности такой, может быть, и нет. Но она всё же, московская». Тарабукин восхитился: «Вот достойный ответ художника, мыслящего образом. Что убеждает в картине? Её жизненность. Она не списана с действительности, но она живёт, подобно действительности. Перед зрителем образ, то есть неизбежно живое, ибо образ рождается». В статье «Искусство М. Соколова» исследователь его творчества Н. Третьяков справедливо отмечает: «Он создаёт множество родственных вариаций, идёт к цели на ощупь, полагаясь на удачные находки случайной импровизации». Критик почти повторяет высказывание самого художника в одном из писем Н.В. Верещагиной: «Я на одну тему делаю много вариаций, и это совсем не повторение – это мой способ овладения темой…» Думается, что Валентин Юстицкий мог бы на законном основании повторить подобное признание. Стилистические устремления их в чём-то неуловимо перекликаются.
В аналогичной позиции Юстицкого разгадка основного характера данного цикла: его тогдашняя погружённость в пушкинскую эпоху, в реалии повседневной жизни той поры, в поэтику его стихотворений и прозы – настойчивое субъективное вживание в существо самой поэтической материи пушкинских творений. И это совершенно очевидно в его рисунках. Лишь ассоциативно связанные вовсе не с конкретными произведениями, а с общими чертами творчества, они отзвучны характерной интонации его поэзии, самой музыкальной вибрации пушкинского стиха. Вроде бы листы совершенно самостоятельные, каждый вполне самодостаточен, но глубинно они связанны между собой единством общего замысла. В этой бесконечной вариативности близких мотивов проглядывает творческая расточительность художника, свободно импровизирующего на заданные мотивы. И в основе её лежит безудержное, стремительное и экспрессивное самовыражение самого Юстицкого. А потому верная суммарная характеристика здесь гораздо плодотворнее дробной описательности при перечислении буквально всех рисунков серии.
«Выразительность, выразительность и ещё раз выразительность – вот единственная доблесть рисунка», – прокламировал один из лидеров группы «13» и признанный теоретик её Владимир Милашевский. Валентин Юстицкий, отличавшийся врождённым артистизмом художественного мышления, в своих листах пушкинской сюиты вполне соответствовал этому определению. Его ненатужный, летучий рисунок, его пластическая активность, смелая энергия штриха, предельный лаконизм обобщённых форм сродни манере пушкинских рисунков, основному характеру их изобразительно-выразительных средств. Он выражал в них скорее стилистику пушкинских творений, их эмоциональное звучание, нежели повествовательные мотивы, и, отталкиваясь от его текстов, передавал собственные свои представления о жизни той эпохи. Выставка в ГМИИ рисунков В.А. Милашевского из собрания Воронежского художественного музея называлась «Иллюстрация, как верность стилю». В ещё большей мере это название приложимо к пушкиниане Юстицкого: её отличает верность стилю поэта и верность собственной стилистике. Так уж случилось именно в коллекции Андрея Морозова, где сконцентрировалась самая обширная часть этой серии рисунков, явно доминируют те, где отчётливо проявился не столько собственно содержательно-смысловой подход к иллюстрированию, сколько эмоционально-стилистический, где сюжетные прямые переклички изображения со словом сменились скорее их чисто ассоциативной близостью. Но именно такие листы и наиболее интересны в собственно графическом отношении.
Неугомонный обновитель своей стилистики, Юстицкий, видимо почувствовал, что именно эмоционально-метафорический способ иллюстрирования в большей мере обнаруживает наличие психологического и творческого избирательного сродства его самого, как художника-интерпретатора с поэтом. Ибо в подобных листах, сберегая свежесть собственного своего графического прочтения текстов и сохраняя их стилистическую и эмоциональную окраску, он отражает пушкинскую скоропись, «избыточную энергию» его письма и рисунка, то, что Абрам Эфрос называл «пафосом экспромта». Они и делались, вероятно, в один присест. Динамическая выразительность этих стремительно набросанных листов Юстицкого, прихотливая виртуозность его линий и штрихов передают пульс пушкинской стилистики, открывая самое сокровенное в ней, ибо дух поэта гораздо важнее для художника, нежели сюжеты его стихотворений или прозы – не зримая точность передачи текста волнует иллюстратора, а передача его эмоционального звучания. И не так уж просто восстановить ход творческой мысли художника в этих рисунках, лишь ассоциативно связанных, не столько с конкретными произведениями, как с общими чертами пушкинского творчества, отзвучных характерной интонации его поэзии. Как утверждал в своей статье «Иллюстрация» (1923) Юрий Тынянов, «никто не может отрицать права иллюстраций на существование в качестве самостоятельных произведений графики».
Таковыми они остаются у Юстицкого и в тех случаях, когда он приоткрывает мотивы конкретного произведения с помощью значимого визуального намёка, играющего роль локально-сюжетной привязки к конкретному тексту. Увидев на рисунке Юстицкого конного богатыря у шатра Шамаханской царицы, сразу вспоминаешь пушкинского «Золотого петушка», а медведь у постели спящей девушки явно намекает на сон Татьяны Лариной из его «Евгения Онегина». Человек, стоящий у клетки и улетающая птица явно намекают на стихотворение «Птичка» 1823 года, а пишущий монах в келье ассоциируется с Пименом из драмы «Борис Годунов». Мужчина, разглядывающий игральную карту и очертания умершей старухи на фоне, как бы воскресающей в воображении игрока, пробуждают в памяти персонажей «Пиковой дамы», а воротившийся домой Пушкин и женщина с младенцем на руках (другой ползает на полу) – явно намёк на строки его «Послания к цензору» («Жена и дети, друг, поверь – большое зло…»). Ряд скабрезных рисунков, где художник представляет конкретно-образное воссоздание весьма пикантных ситуаций, бесспорно, перекликается с пушкинской «Гаврилиадой», а почти столь же «рискованные» сценки, судя по характеристикам персонажей, относятся к поэме «Руслан и Людмила».
Никаких сомнений не вызывают рисунки «Сказке о рыбаке и рыбке», особенно с изображением тощего старика с неводом, в котором трепыхается рыбка, и стоящей, как монумент, на высоком берегу старухой, что-то властно указующей ему. Неоспоримы и листы к «Сказке о Попе и работнике его Балде», где Балда даёт щелчок главному чёрту, заметно смахивающему на В.И. Ленина. Наверняка к пушкинскому «Дон Жуану» условный рисунок, где ангел, слетающий с небес, поражает нечестивца около лишь слегка обозначенной статуи командора. Черти, преследующие сзади и спереди сидящего на лошади юного поэта, вероятнее всего по мотивам самого раннего из сохранившихся произведения четырнадцатилетнего Пушкина «Монах», Песнь 3-я (1813). Можно предположить, что изображённый Юстицким стремительно мчащийся вслед за бегущей собакой всадник, целящийся из ружья в летящую птицу, навеян строками из той строфы «Евгения Онегина», которая была напечатана лишь в первом его издании (глава четвёртая): «У всякого своя охота, / Своя любимая забота: / Кто целит уток из ружья, / Кто бредит рифмами, как я…» Сам заядлый охотник и страстный любитель лошадей, он, видимо, не мог отказать себе в удовольствии графически воплотить этот мотив. Во всех этих случаях, как и в ряде других, коллекционер, напечатавший рядом с репродукцией этого рисунка рисунком пушкинские строки, пожалуй, ничуть не ошибся: очень уж ложится каждый рисунок на текст, а может, напротив – текст на рисунок.
Есть доля вероятности в предположении А. Морозова, что озорной и явно фантазийный рисунок Юстицкого, изобразившего Пушкина в шляпе и с рюмкой в руке, мчащегося на сильно удлинённой лошади, чтобы на её спине во весть рост разместилась обнажённая девушка. Его ссылка на строки из пятой главы «Евгения Онегина»: «За ним строй рюмок узких, длинных, / Подобных талии твоей, / Зизи, кристалл души моей, / предмет стихов моих невинных, / Любви приманчивый фиал, / Ты, от кого я пьян бывал!» Вполне вероятна, и почти недоказуема разом. Тогда как рисунок, изображающий Пушкина всадником с рукой обращённой к летящей Музе, таких сомнений не вызывает: строки его юношеского стихотворения «Мечтатель», обращённые к музе «О будь мне спутницей младой / До самых врат могилы» раскрыты визуально. Тем более что Муза до конца оставалась верной мечте поэта. Столь же убедительно ложится на строки из пушкинских «Бесов» и рисунок Юстицкого изображающий поэта в кибитке, которую бешеная тройка несёт во весь опор сквозь буран, увозя от кружащихся вокруг бесов, примнившихся и кучеру, и автору стихов.
Подобные примеры нетрудно умножить. Касаются они не только изобразительной трактовки пушкинских произведений, но и событий его жизни. Наглядный пример рисунок, где растерянный, робко оправдывающийся Пушкин, уронивший рукопись стоит перед императором, а унтер-пришибеевского типа государь грозит ему кулаком. Или другой рисунок, где изображён Пушкин, подъехавший на коне к пограничному столбу, а некий полицейский чин протягивает ему конверт с гербовыми печатями, где вероятнее всего, значится, что он всё ещё остается, если воспользоваться сленгом советской поры, «невыездным». Думается, А. Морозов верно подобрал строки из пушкинского стихотворения «К Языкову»: «И я с весёлою душою / Оставить был совсем готов / Неволю невских берегов. И что ж? Гербовые заботы / Схватили за полы меня, / И на Неве, хоть не охоты, / Прикованным остался я».
Любопытнейший пример многоаспектной иллюстрации к стихотворению «Деревня», написанному ещё двадцатилетним поэтом. Юстицкий нарисовал взъерошенного, широко шагающего Пушкина, возбуждённо декламирующего призывные стихи. За ним от собора на грузном тяжело ступающем коне едет военный с палашом в руке (возможно император). Можно назвать множество строк в этом стихотворении, которые внутренне отзвучны изображённому. Художник иллюстрирует не один какой-нибудь эпизод, он стремится выразить эмоциональный заряд всего произведения, характерного для пушкинской поэзии той поры, передать не столько те или иные сюжетные мотивы, а стилистику текста, его индивидуально-выразительные особенности, выразить своё понимание многозначности пушкинских текстов.
Повторяю, такого рода примеры составляют явное меньшинство в рассматриваемой здесь личной коллекции. Даже и в этих немногих примерах становится очевидным, что повествовательные функции иллюстраций, рассказы о событиях текста утрачивают для этого художника первенствующую роль. Ему важно другое: переводя фабульные задачи на второй план, избегая подробной описательности, он стремился, чтобы читатель-зритель силой разбуженного рисунком воображения самостоятельно домыслил сюжетно-фабульную ситуацию произведения, а главное – верно ощутил его эмоциональный тон. В большинстве же своём рисунки эти свободны от задачи с визуального сопровождения конкретного текста. Это свободная интерпретация самого духа поэзии Пушкина, её преобладающей ритмики и стилистики. Поэтому многие из таких его рисунков обречены быть неразгаданными в их отношении к конкретному тексту: они ведь к «Пушкину вообще…».
Юстицкий не толкователь пушкинских произведений, а скорее «сочитатель», работающий в соавторстве с чутким к поэтике рисунка зрителем. Он стремится к совпадению с ним не в понимании тематики и сюжетики, а самого духа Пушкинского творчества. Не задумываясь о проблемах полиграфического конструирования книжной формы, оставаясь в пределах образного иллюстрирования, он задумывался о том, как перевести на графический язык поэзию и прозу, передать визуально вербальную стилистику. А о существенном различии конкретности в словесном и изобразительном творчестве толковал Ю. Тынянов ещё в самом начале 1920-х годов.
В коллекции А.С. Морозова много рисунков, показывающих поэта в буднях его деревенской жизни, когда персонажем всей графической серии становятся не герои пушкинской поэзии и прозы, а сам поэт. Как бы длинная кинолента, то неторопливо движущихся, то стремительно проносящихся кадров. В них нет определённой фабулы, отдельного эпизода из биографии Пушкина, а есть стремление образно воссоздать общую атмосферу жизни поэта.
В деревне Пушкин почти не слезал с лошади: «я провожу верхом в поле всё время, когда я не в постели». Да и в пору южной ссылки его любимым занятием была верховая езда. «Наездник смирного пегаса» и в обыденной жизни любил гарцевать на коне, обладая достаточным наездническим опытом, не чурался стремительных скачек, что отразилось и в его собственной графике. Пушкинский рисунок буквально летящего всадника на черновике рукописи стихотворения «Делибаш» мог бы служить эпиграфом почти всех «деревенских» рисунков Юстицкого из обширного морозовского собрания. Они представляют собой единую сюиту с вариациями тематически близких листов, которые отличает их внутренняя пружинистая напряжённость при видимой лёгкости стремительного движения пера. Стремительно скачущие наездники и целые кавалькады всадников и всадниц на лесных и полевых дорогах. Нередко изображены в них обнажённые дамы верхом или встречные крестьянские девки и молодые бабёнки голышом – почти в каждом рисунке.
Юстицкий явно не был лишён был той пылкой чувственности, которая с юности и до гибели была в высшей степени присуща его герою, воспевавшему «Любви безумную тревогу». По-пушкински раскованно-античное восприятие всесильного эроса, присущее и художнику, было в годы нэпа обострено в общественном сознании, уставшем от трагического напряжения первых революционных годов. Гедонистическое мироощущении пришло на смену суровости и аскетизму. Эпикурейское жизнелюбие, интерес к чувственной, эротической стороне жизни обострился. Пушкинское «пью жадно воздух сладострастья» находило достаточно широкий общественный отзвук к середине 1920-х годов. А к началу 1930-х снова повеяло суровым аскетизмом. На этот раз скорее имитированным, псевдореволюционным.
То, что Юстицкий и в середине 1930-х шёл в этом против волны, связано не только с личнобиографической его ситуацией той поры, но и с его неиссякаемым вольнолюбием, нежеланием подчиниться общественному диктату. А Пушкин с его «повышенной эротической чуткостью», отмечаемой и современниками, и биографами, всегда воспевавший «восторг и дерзость наслаждений», давал художнику широкие возможности визуальной реализации подобных настроений: «Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть его не оставляла», – вспоминал о поэте его младший брат Лев Пушкин. Не чуждое его жизнелюбивой натуре повышенное женолюбие сказалось в пушкинских рисунках в большом количестве профилей тех дам, чьим небезгрешным любимцем и ему доводилось порою бывать.
Юстицкий похоже, не отличался беззаботной неразборчивостью, свойственной Пушкину, но постником в этом деле тоже не был, всегда оставаясь вполне эмансипированной личностью. Многие рисунки его отмечены нарочитой ненормативностью и свободой эротического воображения. Нередки в них и отзвуки «фаллического культа». Впрочем, иные листы Юстицкого свидетельствуют скорее не столько о мужском «напоре», сколько о женской зазывности: обнажённые женские тела даны им не только в чувственно-грациозных, но и в откровенно эротических позах. Слегка иронически обыграны их фигуры с трепетно-изогнутыми линиями порывно извивающихся тел. Пушкинские «Минувшей резвости нескромные стихи», получают вполне адекватное графическое воплощение во многих набросочных листах художника. Не гоняясь особо за выдуманной идеальной красивостью. Юстицкий рисует не слишком-то стыдливых крестьянок из окрестных деревень, приветливо встречающих весёлого и доброго барина, возвышающегося, как правило, в седле. Обнажённые тела их, то стройные и гибкие, то плотные, крепко сбитые, дышат здоровьем и свежестью. Эротика художника, как и поэта – вовсе не похожа смакование «голенького» у дряхлеющих эротоманов: это откровенная грубоватая чувственность ещё полных жизненной силы и упоённой ею людей. Русская литературная и изобразительная эротика, не говоря уж о советской, развивалась полуподпольно не только вследствие государственных запретов, но также и потому, что отечественное искусство в подцензурной стране брало на себя функции политологические и идеологические. И стремлением психологически одолеть всякого рода табу, навязываемые властью, ту гнетущую атмосферу всяческих ограничений личной свободы хотя бы в сфере сугубо частной жизни, нарушая любые ограничения, и породили такую раскованность в трактовке эротической тематики. Эта раскрепощённость в середине 1930-х уже не была в нравах той жёсткой поры.
Среди листов этой группы есть несколько рисунков с изображением стремительного, буквально полётного движения проносящихся всадников. Они отмечены совершенно особой стремительностью – стремительностью как темой графического повествования, стремительностью самого изображения, а не только изображённого. Они заметно выделяются спонтанной динамикой и выраженной экспрессией формы. Лаконично-экспрессивные рисунки эти дают как бы обобщающую формулу скачки. Они выделяются не только артистизмом художественного мышления, но выработанным артистизмом исполнения: легчайшее, но уверенное и стремительное касание пера к бумаге листа, ощущение полнейшей раскованности и свободы графического почерка, предельная скупость выразительных средств для достижения высокой экспрессии. Особенно впечатляет очень узкий и сильно вытянутый по горизонтали рисунок несущейся кавалькады семи всадников – сложнейшая миниатюрная композиция, созданная явно в один присест, без последующих поправок, доработок. За этим стоит громадный навык рисования «по воображению», которое мгновенно «считывает» любой его импульс, и стремительно запечатлевает его на плоскости листа.
Видимо, совершенно несправедливо осуждал его именно за это поборник натурного беглого рисунка Владимир Милашевский. Такие натурные или созданные по памяти рисунки у Юстицкого тоже были: один из них – скромный городской пейзажи есть и в собрании А. Морозова, но всё же гораздо интереснее фантазийные его рисунки: торжественное увенчивание Пушкина на Парнасе, Пушкин, сняв шляпу, приветствующий с лошади кентавра, Пушкин, стоящий с кнутом в руке на арене цирка, дирижирующий выступлением обнажённых наездниц, Муза верхом на летящем коне везёт приветствующему её Пушкину лиру. Непринуждённость его затейливых фантазий, словно походя рождаемых богатым и раскованным воображением, подкупает зрителя.
* * *
В морозовской коллекции рисунков Валентина Михайловича Юстицкого есть ещё две группы листов, никак не связанных с пушкинской проблематикой. Одну из них можно условно обозначить как пляжную. А другая – буквально несколько рисунков – отмечена нескрываемым ироническим отношением к советской действительности. Можно предположить, что обе они, особенно вторая, были более обширными, чем представлены у него. Но всё это на день нынешний, конечно, гадательно. Возможно, что эти работы отчасти автобиографичны. Они говорят сегодняшнем дне художника времени их создания. Ощущение своей неукоренённости в московской жизни, точнее сказать – на обочине её, он как бы компенсировал радостями летнего отдыха вдали от суетной столичной жизни, укрывшись на лоне природы от навязываемого массового единомыслия, с упоением предаваясь плотским удовольствиям, утехам полнокровной чувственности.
В большинстве этих, лишённых отрешённой идилличности, пляжных рисунков, заметно стремление к откровенной и достаточно острой подаче образа, ощущение жизнерадостной уверенности в своей желанности и в своих ещё не истощившихся силах. Эти рисунки, отмеченные столь непосредственной жизненностью, существенно отличаются от виртуознейших эротических фантазий в рисунках обширного цикла состарившегося Пабло Пикассо. Столь неприкрытая раскрепощённость воображения уже расходилась с существенно меняющимися нравами прочно утвердившейся тоталитарной эпохи. И дело не только в акцентированной демонстрации пресловутого «мужского достоинства», сколько в создании общей нарочито эротической атмосферы. Сюжеты их по тому времени достаточно сомнительные. Уже относящиеся к числу запретных. Прямо-таки по-пушкински, с его безоглядной откровенностью, не знающей ложного стыда: «Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний…» Родство душ и в этой перекличке. Однако Юстицкий всегда оставался Юстицким, не утрачивая прирождённого гедонистического начала, склонности к раскованному озорству, тяги к насмешливому скоморошеству. «Бес благонравный скуки тайной…» (А.С. Пушкин) не одолевал его: трудности жизненные были, и они усиливались в тот период очень уж заметно, надежды таяли. Но … скуки не было.
Её не допускала к душе непреходящая юность художника, затянувшаяся на всю его жизнь. Ей препятствовала и дерзкая нелояльность к властям предержащим, приведшая его, по слову поэта, «В места по прозванью не столь отдалённые, / Хотя бы лежали за дальними далями…» (А.Т. Твардовский). Об этой насмешливой неприязни к отвердевающему режиму свидетельствуют немногие сохранившиеся рисунки по мотивам тоже вполне современной художнику советской жизни.
Васе они тоже густо пропитаны грубоватой эротикой. На одной из них – художник пишущий стоящую обнажённую модель, которая, подняв одну ногу, недовольно указывает ему пальцем на своё «причинное место». Другой лист, самый, пожалуй, невинный эротически, но не политически, изображает пышногрудых и крепконогих, девиц, бодро вышагивающих с развевающимися красными флагами явно «в означенную даль…» Она озаглавлена самим автором: «Три грации для нашей агитации». В третьем листе доблестный красный воин с винтовкой в руках «штурмует» убегающую, даже летящую в свободном прыжке крестьянскую девку, вооружённую серпом. В четвёртом не менее доблестный вояка в кубанке, при винтовке с приткнутым штыком на плече и с саблей в другой руке, расстегнув ширинку галифе, пытается «обиходить» почти сомлевшую от таких нежностей барышню.
Пятый лист достаточно загадочный. Именуется он надписью: «Царь Гондон», обрамляющей голову восседающего на троне бородатого абсолютного монарха с яблоком в руке над головой сидящей в центре трёх обнажённых «граций». Судя по опечаленным лицам её товарок, сидящих от неё слева и справа, именно она уже высочайше признана повелителем прекраснейшей из них. Державный Парис, как всегда, неоспоримо прав… Владелец коллекции предположил здесь (и вполне резонно ) карикатуру на Сталина, ибо ясно читаются с двух сторон увенчивающей надписи небольшие изображения серпа и молота. И впрямь – в какой другой стране использовалась тогда эта символика? А к середине 1930-х годов советский диктор уже обладал всей полнотой самодержавной власти. Понятно, почему эти рисунки всплыли из затянувшегося «небытия» так поздно. Предполагаю, что таких гротесковых изображений современности могло быть и больше.
* * *
Судьба очень медленно и трудно складывающегося «юстицковедения» ещё окончательно не определилась. Сохранились ли его дореволюционные произведения ранней поры в Вильно, Париже, Москве, Костроме? Знаем ли мы всё (хотя бы основное) о его периоде саратовском от лабораторного экспериментаторства самых первых советских годов, до самых последних его работ. И много ли мы знаем о его внутренней жизни? Боль и горечь пережитого, их неизбывность, иллюзорность призрачной свободы по выходе в «большую зону», где тоже оказалось совсем не сладко.
Человеческая талантливость Юстицкого ничуть не уступала художнической. Он сумел сохранить и «душу живу», и творческий запал как за «колючкой» гулаговского архипелага, так и в чуть более просторной «зоне» расконвоированного своего бытия на рубеже 1940–1950-х. Конечно, искусство его существенно трансформировалось. Полотна его последних лет нельзя сопоставлять с долагерными: это как бы работы уже другого художника. Рождается серия импровизированных живописных спектаклей в духе не то Ватто, не то Монтичелли, отдалённо перекликающихся с «карнавальной феерией» картин Башбеук-Меликяна. Это любование красотой воображаемого с налётом таинственной недоговорённости.
Творчество Валентина Михайловича Юстицкого пережило годы запрета и относительного забвения». Оно трансформировались в идиллическую, чуть ироничную мечтательность: «Мы уже дошли до буколик, / Ибо путь наш был слишком горек, / И бесплоден с временем спор». (Д. Самойлов). И снова оно вернулось к зрителям, ибо выдержало жестокое испытание реалиями трагической эпохи, а потому и займёт своё место в художественном наследии ушедшего столетия. Теперь это уже гарантировано. Но усилиями отдельных людей такое может случиться с куда большим размахом и полнотой. А главное – гораздо быстрее.


Меня всегда занимали проблемы восприятия исследователями персонального поведения тех или иных деятелей культуры прошлого. Зачастую мы судим о них, игнорируя обстоятельства их жизни в условиях тогдашнего социума, совершенно не ощущая того, что некогда социологи именовали изжитым ныне термином «психоидеология эпохи». А это ведёт к существенным перекосам в оценке творческого и жизненного поведения того или иного изучаемого нами мастера. Ибо суд наш вершится по меркам, совершенно неприменимым к пониманию реальных возможностей творческой самореализации каждого в социально-политических условиях, в которых им суждено было выживать и творить. И потому нам следовало бы стать осмотрительнее в своих зачастую совершенно неоправданных похвалах или хуле. «Прогноз на прошлое» – так называется одна из публицистических статей моего старшего и более опытного товарища, талантливого и вдумчивого искусствоведа и критика Григория Островского, посвящённая обстоятельствам жизни и творчества известных советских художников конца 1920-х – середины 1980-х годов. Один из разделов этой статьи назван «Парадоксы эпохи». Она действительно была полна таковых. А мы, оценивая её, – кто с умилением, а кто с проклятьями, – не учитываем всерьёз последовательной динамики политических и эстетических веяний, многосложности жизнеощущения и поведения активных участников художественного процесса той поры. Выросшим уже в позднесоветскую пору, не говоря уж о тех, кто сформировался в постсоветскую, нелегко представить себе восприятие старшим поколением грандиозных и трагических событий, которые радикально изменили весь строй традиционной жизни страны – и в момент революционного перелома, и в ближайшие десятилетия после него.
Помню, как зимой 1969 года я, не отличавшийся особой деликатностью, прервал восторженный рассказ вдовы Павла Кузнецова Елены Михайловны Бебутовой о первом десятилетии советской власти. Мне не верилось, о чём я откровенно и сказал ей, что она – потомственная светлейшая княгиня, как и муж её – сын саратовского церковного живописца, одарённейший и успешный художник Павел Варфоломеевич Кузнецов, были так уж счастливы в ту пору опасного и жестокого социального эксперимента. Возмущённо оборвав меня, она ответила: «Вы слишком молоды и не захватили удушливую атмосферу последних лет царизма. Вам не понять проснувшихся надежд и упований, вы родились, когда они давно уж испарились. Мы же очнулись и многое стали понимать, задолго до Вашего появления на свет. Но всё же с большим опозданием. А научиться жить по новым правилам нам было, поверьте, очень трудно. И не сразу всё усвоили». Она объяснила, что настоящая учёба выживания и вынужденного осовечивания у них началась лишь в годы пресловутого Великого перелома, то есть на рубеже 1920–1930-х годов.
Григорий Островский в своей статье обрисовал немало парадоксальных примеров поведения известных мастеров отечественного искусства в условиях уже достаточно прочно утвердившейся тоталитарной власти. Приведу лишь некоторые из них: «Вера Мухина мечтает сбежать за границу, попадает в ссылку, а по возвращении создаёт „Рабочего и колхозницу“, ставших символом Страны Советов». «Евгений Лансере, один из блистательной плеяды „Мира искусства“, изощрённый стилизатор и певец державного Петербурга, исполняет по заказу Л. Кагановича панно во славу ударников Метростроя». «Павел Корин портретирует советских военачальников во всей красе орденских иконостасов, создаёт мозаики – апофеоз великодержавного милитаризма, а закрывшись в мастерской, десятилетиями пишет монахов, юродивых и патриархов, картину „Русь уходящая“ – реквием российскому православию». Но, пожалуй, самый знаменательный пример: «Притомившись портретами вождей, Александр Герасимов загонял в построенную во дворе деревянную баньку молодух, поддавал пару и писал огромную и самую любимую картину…»1 Картина «Деревенская баня», написанная явно с натуры, действительно создана им в 1938 году. Едва ли она вполне соответствовала уже укрепившимся принципам так называемого метода социалистического реализма, но явно грела душу весьма амбициозного художника, активно стремящегося непременно стать его правоверным адептом.
Вскоре Александр Герасимов окажется четырежды лауреатом Сталинской премии, первым советским президентом возрождённой Академии художеств. А в конце 1962-го года это именно он спровоцирует беснование Никиты Хрущёва в Манеже на выставке, посвящённой тридцатилетию Московского отделения Союза советских художников – то, что потом назовут «кровоизлиянием в МОСХ». А ведь начинал Александр Герасимов как даровитый живописец, продолжающий традиции мастеров Союза русских художников – Архипова, Коровина, прежде чем стать главным портретистом советских вождей. Уже в ранний период, судя по дореволюционному его полотну
«Тройка» (1914) из собрания Радищевского музея, он стремился к масштабной картинной форме, что проявилось и в зрелом его творчестве. Но при этом он создал немало присалоненных эффектных пейзажей и натюрмортов, нравящихся его сановным покровителям. Не будучи выходцем из пролетарской среды, Александр Герасимов и в советских условиях довольно успешно выстроил свою карьеру, скорее, увы, административно-художественную, нежели собственно творческую, хотя природная одарённость, хорошая профессиональная выучка позволяли ему достичь и в этом направлении существенно большего.
Но речь сейчас пойдёт вовсе не о нём, а о художнике совсем иного психологического склада и жизненного поведения, иной стилистической ориентации и, естественно, совершенно иной судьбы – о Валентине Михайловиче Юстицком. Будучи существенно моложе Александра Герасимова, не имея за плечами столь авторитетных наставников в живописном ремесле, он принадлежал к тому поколению начинающих творческую карьеру молодых российских живописцев и графиков, для которых формальные искания художественного авангарда обладали неотразимой привлекательностью. Политические пристрастия молодого Юстицкого, выходца из достаточно обеспеченной среды, сейчас прояснить нелегко. Судя по его художественным увлечениям, он не был горячим приверженцем монархического официоза.
Беседа с Еленой Михайловной Бебутовой как-то прояснила мне в самых общих чертах мироощущение довольно широкого слоя буржуазно-дворянской творческой интеллигенции в пору крушения российского самодержавия. Глубоко и точно сформулировала проблему интеллигенции и власти Лидия Гинзбург: «Многие большие люди русской культуры не хотели революции, осуждали революцию. Но несогласие с существующим было опытом всей русской культуры». И далее:
«Русский интеллигент находил комплекс несогласия в себе готовым вместе с первым проблеском сознания как непреложную данность и ценность»2. Несогласие с существующим толкало к его разрушению, а после возникало новое, казалось бы, иное настоящее, полное опасностей и невзгод, но одушевлённое светлыми упованиями и надеждами.
Возможно, что и недолгое пребывание Юстицкого в Париже отчасти укрепило в нём эту оппозицию к прогнившему царскому режиму. Во всяком случае, оказавшись в самом начале 1917 года в Костроме, он не только стал деятельным участником «Северного общества художников», возникшего уже после Февральской революции, но и работал в комиссии по созданию плакатов «Займа свободы» в поддержку Временного правительства, продолжавшего войну с Германией. А в феврале 1919-го Валентин Юстицкий – деятельный участник художественной жизни революционного Саратова, куда он, по семейным преданиям, был командирован Анатолием Луначарским. Его зрелое творчество связано с пребыванием с 1918 по 1935 и с 1946 по 1950 в этом городе, где он преподавал, активно участвовал на выставках, занимался декоративно-монументальным росписями, азартно теоретизировал, участвуя в жарких диспутах рубежа 1910–1920-х годов, словом, он стал едва ли не самым активным из деятелей местного художественного процесса, бродильным и будоражащим его началом. В 1919 году он руководил одной из студий Саратовского Пролеткульта. Там он, по воспоминаниям Музы Александровны Егоровой (тогда ещё Троицкой) взялся за масштабные росписи в клубе Пролеткульта. «Тема их – героика труда, пафос революции. Ему помогали студийцы. Работа была выполнена в короткий срок в смелой, уверенной манере Юстицкого. Декоративная обобщённость, динамичность, острый рисунок характеризовали манеру Юстицкого, да и были присущи общему направлению искусства тех дней. <…> Смелость, уверенность руки Юстицкого, оригинальность композиционного решения восхищали меня», – писала она уже в 1960-е годы3. Тимофей Лякин, молодой тогда живописец, рассказывал, что в эти годы Юстицкий вместе с другими опытными художниками и студентами активно участвовал в оформлении Агитпоезда и Агитбаржи, в праздничном украшении городских улиц в дни годовщин Октябрьского переворота и первомайских торжеств. Его лояльность к революционной власти не вызывала тогда сомнений.
Но все внешние перипетии жизни талантливого художника, как и послужной список, перечисление выставок, где он экспонировал свои работы, ещё не открывают его душу, его представлений о сущности творчества, его отношений с ближним окружением и с эпохой, не позволяют понять своеобразие его неповторимой творческой личности. Это скорее раскрывается, хотя и опосредованно, прежде всего, в самом искусстве Юстицкого. Бывают художники, сравнительно быстро нашедшие собственную тему и творческую манеру. Сформировав свою особую стилистику, они развивают и обогащают её, не сворачивая с избранного пути. Юстицкий же не был однолюбом в жизни и в творчестве. На каждом отрезке художественной деятельности этого редкостно переимчивого мастера его отличала повышенная способность впитывать и преображать самые разнообразные стилевые тенденции своей эпохи, необычайно богатой противоборствующими исканиями, создавая на их основе собственную свою неповторимую стилистику. Это проницательно подметил рецензент его первой персональной выставки в 1923-м году: «Вот художник, на котором с барометрической чувствительностью отразились характерные черты и вехи переходной эпохи в искусстве»4. И ведь Юстицкий действительно был отзывчив на новые веяния и, казалось бы, непредсказуемые повороты в эстетических исканиях лихорадочно меняющейся эпохи.
Необходимо понимание особенностей личности художника, вся жизнь которого стала безостановочным поиском, а также специфических условий его творческого бытия в провинциальном городе. С одной стороны – стремление прорваться на престижные столичные выставки, ни одна из которых никогда не была для него по-настоящему «своей». С другой – особый склад натуры Юстицкого: постоянная готовность к усвоению отовсюду идущих импульсов, гибкость реакций на меняющиеся обстоятельства, отсутствие фанатизма как в дурном, так и в высоком значении этого слова, смолоду присущая ему неодолимая тяга к непрестанному иронически-игровому самообновлению. Человек он был горячий, искромётный, увлекающийся многим и разным, чуждый стремлению создавать каноны жёсткой законченной системы, способный едва ли не одновременно обращаться к различным стилистическим течениям, чем и объясняется разбросанность его исканий. А художник – это был творчески очень мобильный, раскованный, свободный в выборе стилистики, легко меняющий манеру, не скованный заученными приёмами. Он переимчиво вникал в особенности различных стилистических систем, оригинально переиначивая их на свой лад. И постичь причину его персональной интонации – такой разной в различные периоды жизни и вместе с тем, безусловно, единой, присущей только ему одному, – задача совсем не из простых.
Суть именно его творческой личности угадать в протеизме Юстицкого довольно трудно. Его не втиснешь ни в какую «обойму» – уж слишком он был субъективен и склонен к перемене стилистики, а стало быть, и разного рода обойм. Бесконечные творческие перевоплощения этого принципиального противника любых форм эстетического консерватизма в пределах лишь полутора десятилетий (1918–1932) и совсем уж другие полотна уже рубежа 1940–1950-х годов с их прихотливым затейливым артистизмом, а в иных из его картин («Парки», «Дон-Кихот») и с налётом символико-гротесковой образности воспринимались абсолютно несвязанными между собой. Ибо пропущенным оказалось важное для понимания его творческой эволюции десятилетие с середины 1930-х до середины 1940-х годов, нам неведомое, всплывшее отчасти не ранее начала 70-х, когда вновь пробудился, заметно с годами усиливаясь, интерес к художественному наследию этого многообразно одарённого и необычайно активного мастера. Удивительно, как в творческом сознании одного талантливого живописца и графика умещались столь разнородные, казалось бы, несовместимые стилистические традиции.
В Саратове Юстицкий начинал с преподавания в одной из студий Пролеткульта, затем в Художественном институте, ставшем вскоре техникумом. Он оставался активным экспонентом выставок вплоть до середины 1930-х годов, участвовал в различных конкурсах, был организатором разного рода театрализованных развлечений творческой молодёжи города: спектакля любительского театра «Арена ПОЭХМА» (Поэт, художник, музыкант, артист), так называемого «Шумового оркестра», занимался разработкой фантастических архитектурных проектов типа движущегося моста через Волгу, или проекта Памятника борцам революции в духе «гениального прожектёрства» Владимира Татлина. Именно в начале1920-х Юстицкого увлекают идеи конструктивистов. И в сценографии (не только в оформлении «Паровозной обедни» В. Каменского), и в станковых композициях он повернул на этот путь. Но с 1922 года господствующее положение левых близилось к закату: начинался достаточно крутой антиформалистический поворот, как в столицах, так и в провинции. Один из самых проницательных художественных критиков Абрам Эфрос уже годом раньше сознавал, что «левизна политическая окончательно разошлась с левизной художественной». Для агитационно-пропагандистских задач советской власти требовалось искусство, доступное восприятию массового зрителя.
Известную роль в замедлении этого процесса в Саратове сыграла «Всеобщая международная выставка германских художников», открывшаяся в залах Радищевского музея в конце 1924 года. Судя по откликам прессы, состоялась конференция, на которой Валентин Юстицкий выступил с докладом «Русский и германский конструктивизм». Но в собственном творчестве 2-й половины 1920-х он развивал и культивировал иные черты экспрессионизма. В красочных, островыразительных гуашах нэповской поры Юстицкий даёт выход раскованной экспрессии самой манеры письма, её пластической и цветовой энергии. В этом обширном цикле метко схваченные сцены обыденной жизни, остро увиденный типаж. Они отмечены терпким привкусом нэповского бытия – «запах времени» ощутим в них сполна. Современники чувствовали образную энергию этих листов. Облик тогдашнего городского обывателя дан в них шаржировано: гротескная колоритность персонажей акцентирована нарочитой утрированностью характерных жестов и поз, напряжением цвета. Здесь несомненна стилистическая близость немецким художникам-экспрессионистам, но нет их экстатической напряжённости, надрывности, смакования уродливого или страстного его обличения. Гуаши эти разгульно-жизнелюбивее, нежели отзвуки экспрессионизма в листах и полотнах других саратовских художников – Фёдора Белоусова, Евгения Егорова, Николая Симона и ряда других живописцев и графиков той поры.
Особенности характера Юстицкого проявились и в педагогической деятельности. Его мастерская была особенно привлекательна для учащихся «левой» ориентации. В ней и в изменившихся к концу 1920-х условия дольше, чем во всех остальных мастерских, теплились отзвуки авангардных увлечений, дух непредуказанных свыше исканий. Там свободно спорили о классическом и современном искусстве, о различных течениях в отечественной и европейской живописи. Руководитель стремился расширить эстетический кругозор питомцев, стремясь, чтобы, у них, по слову К. Малевича, «нарастилась определённая культура живописных ощущений». Беседы Юстицкого о самом живописном материале, о фактуре, о качестве красочного мазка, о специфике масляной живописи, темперы, гуаши, акварели, о краске как о важнейшем факторе в создании живописного образа, запомнились многим его ученикам. Но горячая привязанность к наставнику вовсе не означала обязательного следования его искусству. Он не отправлял учеников по стопам своим, как Казимир Малевич. Юстицкий был для большинства своих студентов неотразимо привлекателен, но следовать себе не только не принуждал, но и постоянно остерегал от этого. Занимательный рассказчик, он увлекал учеников, покровительствовал их формальным исканиям, поощряя устремлённость к неизведанному, одержимость новым. Единоправным же властителем, подобно Малевичу, он по складу своей натуры быть не мог и не хотел. Этому препятствовал не только спонтанный характер его собственного творчества, но и методы его преподавания. Ученики Валентина Юстицкого, которые состоялись как художники, ни в чём не повторяли своего учителя.
В нашей телефонной беседе известный литературовед, писатель и поэт, профессор Воронежского университета Анатолий Михайлович Абрамов, рассказывая о времени своей учёбы в мастерской Юстицкого, акцентировал серьёзный общегуманитарный потенциал и опасную раскованность поведения вольнолюбивого наставника в заметно меняющейся к худшему начальную пору так называемого «великого перелома». Быть может, это и делало его особенно привлекательным для учащейся молодёжи. «Озорство молодого времени», как именуют иногда послереволюционное десятилетие, было сродни натуре Юстицкого, его импульсивности и неукротимому темпераменту. Его воспитанники вспоминали, как, неожиданно обратив внимание на вяловато-рассеянный вид одного из них, уныло работающего над этюдом, подойдя к нему, он сказал: «Возьми трёшницу, сгоняй на вокзал, выпей водки, разбей витрину, убеги от милиционера, а потом становись к мольберту». Азартный и зажигательный во всём, он терпеть не мог равнодушного отношения к живописи. Двадцатые годы – наиболее счастливая пора в жизни талантливого художника. К середине этого десятилетия наметился его, быть может, отчасти вынужденный поворот к пейзажу, портрету, к бытовому жанру, к той тематике, которая получит развитие в его полотнах ближе к середине 1930-х годов. Если об этих несохранившихся жанровых картинах можно предположительно судить как о тенденциях, реализовавшихся уже в последующее десятилетие, то о грандиозном заказном портрете Ленина, экспонировавшемся на выставке в 1925-м году, можно говорить лишь на основании беглых упоминаний в прессе и рассказам его младших коллег. Единственное, что совершенно очевидно: к такого рода «социальному заказу» в ту пору относились совсем иначе, чем десятилетие спустя. Вместе с другими саратовскими мастерами Юстицкий участвовал на ряде столичных выставок. На седьмой выставке АХРРа он представил типажный портрет немца-колониста, интерьер и ряд пейзажей. Привлекательнее для него было участие в экспозициях объединения «4 искусства», где, по словам Милашевского, ему покровительствовал Павел Кузнецов. Юстицкий выставлял там пейзажи (на выставке 1926, 1928 года), и жанровые композиции: «Рыбаки», «Девушки с сетями» (в 1929 году). Но, быть может, гораздо важнее для понимания значения именно рисунка в творчестве этого художника является его участие графическими листами на первой выставке группы «13», открывшейся в феврале 1929 года. Инициаторами её стали бывшие саратовцы, известные графики – Владимир Милашевский, Даниил Даран и Николай Кузьмин – сердобчанин, косвенно связанный с нашим городом.
Были у Юстицкого и так называемые «крайности»: от горячего увлечения творчеством Хаима Сутина до картины 1935-года «Овации товарищу Сталину на 7-м съезде Советов», командировки его как члена АХРР с 24 мая 1925 года для подготовки материала к восьмой выставке этой, вполне уже определившейся, откровенно официозной группировки. Так что изображать его как монолитно-цельного противника режима, пожалуй, не приходится. Но разочарование в отношении к крепнущему тоталитарному правлению в эти годы постепенно нарастало у него и вскоре выплеснулось наружу. Искусствоведческие словесные «портреты» жизни и творчества этого мастера, написанные в разные периоды, лишены той «многоцветности» жизненного поведения, которая отличала каждый из этих периодов творчества Юстицкого с 1920-х и до середины 1930-х годов. Может показаться неожиданным и странным такой набор, казалось бы, совершенно несочетаемых произведений в творчестве одного художника в пределах всего лишь десятилетия. Но странность эта вполне объяснима социальными обстоятельствами и духовной атмосферой эпохи. Данный этап исторического процесса ставил его участников в особые обстоятельства, диктующие каждому линию поведения соответственно его происхождению, социальному статусу, убеждениям и темпераменту, открывая перед ним определённые перспективы и угрозы в зависимости от характера его дарования, рода занятий, отношений с окружающей средой.
Как верно отмечала проницательнейшая Лидия Гинзбург в своей книге «Литература в поисках реальности», «типовой участник исторического процесса нисколько не был монолитен. Он вперемежку утверждал и отрицал, отталкивался и примирялся»5. И далее конкретней: «Люди 20-х годов в стихах и прозе, в дневниках, в письмах наговорили много несогласуемого. Но не ищите здесь непременно ложь, а разгадывайте великую чересполосицу – инстинкта самосохранения и интеллигентских привычек, научно-исторического мышления и растерянности»6. Она привела наглядный пример, как один литератор, торопливо, но ловко перестраивающийся на ходу с учётом меняющейся конъюнктуры, решил выступить с докладом «О социальных корнях формализма». Он заявил при этом: «Надо иметь мужество признаваться в своих ошибках». А другой по этому же поводу иронически заметил: «Я перестаю понимать, чем, собственно, мужество отличается от трусости».
Это созвучно пастернаковскому пониманию мучительной коллизии той поры для выходцев из старой интеллигенции: коллизии, которая породила горькой иронией звучавшие строки из его же «Высокой болезни»: «А сзади, в зареве легенд, / Идеалист-интеллигент / Печатал и писал плакаты / Про радость своего заката». Такое традиционное для русской интеллигенции народолюбие, обернулось в ту пору вовсе не ответной любовью победившего народа, а породило мучительные раздумья о случившемся и тревожные поиски своего места в совершенно изменившемся и становящимся опасно враждебным социуме. Об этом стремлении Борис Пастернак писал, опираясь на пример Пушкина, который в своих «Стансах», рождённых вскоре за разгромом декабристов, призывал Николая I следовать примеру его царственного предка – Петра Великого, начало властвования которого тоже «мрачили мятежи и казни»: «Семейным сходством будь же горд; / Во всём будь пращуру подобен: / Как он неутомим и твёрд, / И памятью, как он, незлобен». «Стансы» же Бориса Пастернака, написанные в 1931 году, когда уже с достаточной ясностью обозначились угрожающие перспективы слома той весьма относительной свободы середины 1920-х годов, обращены не к державному сатрапу, а к самому себе, выбирающему в эту переломную эпоху верную позицию в необратимо меняющейся жизни страны.
В противоречивой и мучительной форме осуществлялось неизбывное пастернаковское душевное стремление найти своё законное место в нарождающемся откровенно тоталитарном сообществе, пока ещё сохраняется смутное упование на такую возможность. И он не случайно обращается к пушкинской светлой надежде: «Столетье с лишним – не вчера, / А сила прежняя в соблазне / В надежде славы и добра / Глядеть на вещи без боязни. / Хотеть, в отличье от хлыща / В его существованье кратком, / Труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком». У гениально одарённого Бориса Пастернака это тоже не очень-то получалось: десятилетиями он кормился в основном поэтическими переводами, а больше надеялся на картошку, выращенную им на даче в Переделкино. У саратовского вольнолюбивого живописца шансов было ещё меньше. Вызревшая к началу 1930-х ситуация в социально-политической и художественной жизни страны оказалась крайне неблагоприятной для талантливых и независимых мастеров такого плана. Поворот к бытовому жанру, к портрету и пейзажу, едва обозначившийся в живописи Валентина Юстицкого середины 1920-х годов, получил развитие в некоторых его полотнах середины 1930-х годов: «Рыбаки», «Пейзаж», как и в подаренном Радищевскому музею Владимиром Спиваковым эффектном женском портрете «Печальная муза». По сохранившимся фотографиям известны также иные работы этого времени: фантазийный «Индустриальный пейзаж» и почти остовская, очень экспрессивная по своей пластике и актуальная для того времени, картина «Шуцбундовцы» (1934). Это – оперативный отклик на политическую злобу дня: в феврале 1934 года в Вене шли бои: отряды шуцбунда (социал-демократического союза) отказались разоружиться. Началась осада кварталов, занятых ими. Часть восставших отступила в Чехословакию, а захваченных их руководителей повесили. Форсированная, почти плакатная экспрессия этой картины, судя по фотографии, перекликалась с исканиями той группы живописцев ОСТа, которая явно ориентировалась на эстетические принципы немецкого экспрессионизма, хорошо знакомые Валентину Юстицкому и в чём-то близкие ему. Но судить по тоновому снимку можно только о композиции и пластике, но не о колорите.
К этому моменту ситуация в Саратове стала для Юстицкого крайне неблагоприятной. Уже с рубежа 1920–1930-х годов, в пору так называемого «Великого перелома», чётко обозначились перемены в методах и стиле руководства тоталитарной властью всей духовной жизнью страны. В провинции это принимало особенно жёсткие, часто нелепые и оскорбительные формы. Существенно изменились порядки в художественном техникуме. Они привели к «исходу» наиболее образованных и талантливых педагогов, пытавшихся посильно противостоять административному нажиму партийных демагогов, настойчиво проводивших линию тотальной идеологизации учебного процесса, подчиняя его конъюнктурным задачам текущего момента. Юстицкий продержался дольше других, но и он в 1935-м году вынужден был покинуть Саратов, пытаясь закрепиться в Москве. Беседы осенью 1970-го года в московской мастерской Бориса Зенкевича как-то прояснили мне причины массового исхода саратовских (и не только!) художников в столичные или просто другие города в середине 1930-х годов. Это были, конечно же и поиски более приемлемого и достойного заработка, и тяготение к местам более высокой художественной культуры, активной выставочной жизни, но также и охватившее многих желание затеряться в среде, где неизвестны ни их социальное происхождение, ни раскованная творческая жизнь предшествующего десятилетия, где не было лично ими задетых или обиженных людей. Это воспринималось нередко как попытка укрыться, избежать репрессий. Кому-то относительно повезло. Для многих же такая надежда оказалась тщетной.
Жизнелюбивого и ироничного Юстицкого вовсе не тянуло, подобно пастернаковскому запуганному интеллигенту писать плакаты «про радость своего заката…» Судя по письмам жене, Юстицкий поначалу верил в возможность полноценно реализоваться в качестве успешного книжного иллюстратора. И все данные для этого у него как будто были. Реальность, однако, оказалась не столь лучезарной, как виделось поначалу. Его рисунки книжной графикой не стали. Судя по воспоминания его бывшей ученицы и близкой подруги Гали Анисимовой, он сумел получить интересный заказ в престижном издательстве «Асаdеmia». Речь шла об иллюстрациях для книг двух прославленных французских писателей: «Деньги» Эмиля Золя и «Суждения Аббата Жерома Куньяра» Анатоля Франса. По её рассказу, Валентин Михайлович со сложным заданием прекрасно справился: рисунки были выразительны, но при этом затруднительны в печати, а на просьбы упростить их он ответил решительным отказом: «Я – Юстицкий, если вам это не подходит, возьмите другого художника». Компанейский и покладистый в общении, он не склонен был к компромиссу в делах творческих. Своевольный художник не пошёл на то, с чем вынуждены были согласиться замечательные графики, его коллеги по выставкам группы «13».
Милашевский говорил мне, что трудности работы для издательств испытывает и сам он, и Даниил Даран, и Татьяна Маврина. Только Николай Кузьмин сравнительно легко одолевал их. Все эти талантливые рисовальщики, включая Кузьмина, охотно избежали бы полиграфии, явно тяготея скорее к станковой форме иллюстрирования, решаемой в самодостаточном и обширном цикле рисунков. Однако все они оставили заметный след и в книжной графике тоже. А Юстицкий насиловать себя, приспосабливаясь к требованиям полиграфии, не желал или, скорее, по характеру своему, даже и не мог. Такая позиция художника в мировом искусстве иллюстрации не уникальна, но достаточно редка. В тогдашней же жизненной ситуации Юстицкого она была заведомо обречённой, хотя обладала реализуемой, интересной и перспективой творчески, выставочной или чисто альбомной (вне книжного текста) публикацией. И он сделал ряд станковых иллюстраций по мотивам поэзии Маяковского, которые успешно экспонировал на выставке в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха. А затем включился в охватившую едва ли не всю художественную интеллигенцию спешную и азартную подготовку к столетнему юбилею гибели А.С. Пушкина.
Справедливо считается, что этот странный юбилей гибели великого поэта был продуманной заготовкой Сталина, отвлекающей общественное сознание от ужасов массового террора, набиравшего темпы после убийства С.М. Кирова. Юбилеи смерти не получали с той поры такого масштабного звучания и не становились всенародным праздником. Трудно назвать местность, не охваченную тогда энтузиазмом подготовки мероприятий к означенному сроку. Пик «большого террора» отчасти был притушен им. Имя великого поэта заметно играло свою единительную роль. И вовсе не всегда в том направлении, которое грезилось сатрапу и его приспешникам. Именно в 1937-м не случайно кем-то была пущена горькая, но меткая шутка, что «Пушкин стал членом Политбюро»7. К той поре Юстицкий, как и немалая часть творческой интеллигенции, окончательно разошёлся с утвердившимся в стране тоталитарным режимом. Наступила пора горьких разочарований, утраты каких-либо благих упований. Они обернулись иллюзией. Но очевидным это стало вовсе не сразу. Не сразу была осознана многими и правота Георгия Плеханова, полагавшего, что преждевременный революционный захват власти, но без вызревших к его моменту социально-экономических предпосылок, может обернуться новым монархизмом, но на совершенно иной, уже коммунистической основе. А с этим свободолюбивый художник согласиться не мог. И его обращение к поэзии Пушкина не было случайностью. «Пушкин – стержень русской культуры, который держит всё предыдущее и всё последующее. Выньте стержень – связи распадутся», – писала Лидия Гинзбург в книге «Литература в поисках реальности»8. У Пушкина художник искал нечто созвучное своим чувствам. И экспрессия пушкинского стиха оживает в экспрессии графических листов Валентина Юстицкого.
Обнаружить содержательно-смысловые связи между конкретными его рисунками и текстами Пушкина не всегда легко. Ведь то, что именуют «эмоциональным содержанием», пересказать буквально едва ли возможно. Рисунки эти чаще всего свободны от задачи визуального сопровождения конкретного текста. Это вольная интерпретация самого духа пушкинского творчества. В станковой самодостаточности этих рисунков (вне их обязательного соответствия сюжетике конкретных стихов или прозы), в их стилистическом строе легко угадать самостоятельную графическую ценность свободного и смелого высказывания художника. Ибо для Юстицкого обращение к Пушкину – не только конъюнктурная (юбилейная!) возможность реализации своего творческого потенциала, но и ощущение глубинной ментальной близости их художнических натур. Порою случается так, что происходит полнейшая несоединимость двух творческих темпераментов, – поэта или прозаика и художника-иллюстратора. Но тут случай удивительного душевного и духовного сродства при разной масштабности дарования и размахе творчества. Ибо художнику удалось не столько точное прочтение того или иного текста, как совпадение с Пушкиным по общему эмоциональному строю. Роднит их и безудержное стремление к персональной и творческой свободе в годы ожесточённого на неё наступления самодержавной или тоталитарной власти.
Часто пишут: имя рек такой-то – художник и человек. О Юстицком следовало бы всегда говорить в обратном порядке: человек и художник. Акцентирую именно личные качества его натуры, ибо вне реального жизненного контекста само творчество Юстицкого-художника не понять. И Пушкина тоже. О том, что душевные переживания поэта оказывали мощное воздействие на его творчество, убедительно показал в биографии Пушкина Юрий Лотман. Творчество поэта и художника очень разнообразно и удивительно цельно. Как и Пушкин, Валентин Юстицкий всегда становился душою компании, направляя тематику беседы, оживляя и обостряя её. Как и Пушкин, он частенько «сыпал остротами», насмешничал над приятелями и коллегами, позволял себе иронизировать и над верховной властью. Словно пушкинское: «Да так, само как-то с языка слетело…» это азартное требование подгулявшего Юстицкого, шумно «выступающего» на Тверской с настойчивым запросом: «Дайте мне хоть на пятачок истины». Он получил её на два пятачка: 10 лагерных лет. По воспоминаниям Н.М. Языкова, что на его замечание о странном названии – «Московский английский клуб» Пушкин мгновенно назвал как ещё куда более странное – «Императорское человеколюбивое общество», а о Николае I заметил: «Хорош, хорош, а на тридцать лет дураков наготовил». Судя по воспоминаниям Милашевского и Анисимовой, Валентин Михайлович тоже не слишком почтительно отзывался о советском тиране: «рябой пахан, кровосос». Но судя по следственному делу Юстицкого, изданному в 2014-м году Н.Е. Малыгиным со вступительной статьёй Марины Боровской, свою вину Юстицкий категорически отрицал9. Психологически это понятно: он, как и Пушкин, не ощущал своей вины. Свободомыслие не казалось им государственным преступлением. Заговорщиками оба они не стали, а остеречься и прекратить опасно насмешничать не могли.
Трудно сказать, на что надеялся художник, затевая обширнейший цикл своей пушкинианы, прямо или косвенно соотнесённый с тематикой произведений великого поэта. Он создал сотни графических листов, распылённых, к сожалению, по нескольким собраниям, что разрушило цельность этого интересно задуманного цикла. Нет уверенности, что всё, что было создано им в эти годы, доступно рассмотрению, а может, не всё и сохранилось. Обширная, но целостная сюита оказалась разрозненной. И никто не знает о характере его общего замысла, как и о продуманности или случайности в последовательности создания конкретных рисунков. В окрестностях Саратова (в селении Усть-Курдюм) в частной коллекции Андрея Морозова хранится 240 графических листов этого масштабного цикла, частью датированных и подписанных автором. И в основном они доступны обозрению на его сайте, как и в изданном владельцем альбоме. Часть из них воспроизведена и в альбоме «Валентин Юстицкий», изданном в 2009-м году Радищевским музеем. Отдельные листы этой обширнейшей пушкинианы Юстицкого хранятся в музеях и частных собраниях разных городов. Сопоставляя эту коллекцию с обнародованными листами других собраний, можно попытаться дать взвешенную версию значимости вклада Юстицкого в графическую пушкиниану да и вообще в отечественную графику той поры.
Тут стоит вспомнить талантливого и независимого художника Михаила Соколова, с которым Юстицкий участвовал на выставках в Костроме, который тоже отличался врождённым свободолюбием, обличительными публичными высказываниями о творящихся в стране беззакониях, за что и получил свой лагерный срок. Оба они отсидели «за болтовню», если воспользоваться расхожей и обыденной тогдашней терминологией. А это куда страшнее, чем ссылка и прочие ограничения поднадзорного Пушкина. Но ведь и статус этих художников был в их эпоху уже иной, чем в 1820–1830-е годы у великого поэта, получившего широкое общественное признание с молодых лет. И время, увы, тоже было, конечно же, совсем-совсем иное... Думается, что ученица и подруга Юстицкого Гали Анисимова догадывалась о реальных причинах его ареста. По её сведениям, его отец (из дворян) был юристом в старом Петербурге, а мать – дочь миллионера Кашина. Уже этого было в ту пору вполне достаточно, даже если забыть о безоглядно иронических по отношению к властям его разговорах.
Как и у Пушкина, душевная молодость и озорниковатая раскованность поведения художника затянулись, пожалуй, до самой кончины. Авторская интонация поэта, звучащая в его стихах, – это и собственная интонация листов Юстицкого, органически отзвучная поэтовой. Отсюда также погружённость его воображения в реалии пушкинской поры, в его поэтику, как и своевольная манера изображения, и ритмика его, тоже созвучная пушкинской. Не все из этих раскованных импровизационных листов напрямую связаны с пушкинскими произведениями – иные показывают Пушкина в жизни. Не все они текстуально ассоциируются не только с житейским, но и с политическим свободолюбием поэта. Встречаются и рисунки, прямо отзвучные историческим реалиям современности, в которую метил Юстицкий. Уже само подтекстовое сопоставление сталинской эпохи с временем царствования Николая I было и актуально, и смертельно опасно по тем временам. Не случайно по ассоциации всплывают в памяти пронзительные Предсмертные строки А. Блока: «Пушкин! Тайную свободу / Пели мы во след тебе! / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе».
Неоспоримы листы Юстицкого к «Сказке о Попе и работнике его Балде», в одном из которых изображено, как Балда даёт щелчок по лбу главному чёрту, смахивающему обликом своим на Ленина. Подобные примеры можно умножить. Касаются они не только изобразительной трактовки пушкинских произведений, но и событий его жизни. Наглядный пример – рисунок, где растерянный, робко оправдывающийся Пушкин, уронивший рукопись «Гаврилиады», стоит перед императором на коленях, а унтер-пришибеевского типа государь грозит ему кулачищем. Или другой рисунок, где изображён Пушкин, подъехавший на коне к пограничному столбу, а некий полицейский чин протягивает ему конверт с гербовыми печатями, в котором вероятнее всего, значится, что он всё ещё остаётся, если воспользоваться сленгом советской поры, «невыездным». Думается, Андрей Морозов верно подобрал строки из пушкинского стихотворения «К Языкову»: «И я с весёлою душою / Оставить был совсем готов / Неволю невских берегов. / И что ж? Гербовые заботы
/ Схватили за полы меня, / И на Неве, хоть нет охоты, / Прикованным остался я». Любопытнейший пример многоаспектной иллюстрации к стихотворению «Деревня», написанному ещё двадцатилетним поэтом. Юстицкий нарисовал взъерошенного, широко шагающего юного Пушкина, возбуждённо декламирующего призывные стихи. За ним от собора на грузном, тяжело ступающем коне едет важный жандарм с палашом в руке. Можно назвать множество строк в этом стихотворении, которые внутренне отзвучны изображённому.
Юстицкий явно не был лишён и той пылкой чувственности, которая с юности и до самой гибели свойственна в высшей степени и Пушкину, воспевавшему «любви безумную тревогу». По-пушкински раскованно-античное восприятие всесильного эроса, присущее и художнику, было в годы нэпа обострено и навязчиво акцентировалось в общественном сознании, уставшем от героизированной трагедийности первых революционных годов. Гедонистическое мироощущение пришло на смену революционной суровости и аскетизму. Эпикурейское жизнелюбие, интерес к чувственной, эротической стороне жизни заметно обострился. Пушкинское «пью жадно воздух сладострастья» находило достаточно широкий общественный отзвук в середине 1920-х годов. А к началу 1930-х снова повеяло суровым аскетизмом. На этот раз скорее имитированным, псевдореволюционным. И то, что Юстицкий в середине 1930-х шёл и в этом против волны, связано не только с лично-биографической его ситуацией той поры, но и с его неиссякаемым вольнолюбием, нежеланием мириться с навязываемыми нормами обиходного жизненного поведения.
Русская литературная и изобразительная эротика, не говоря уж о советской, развивалась полуподпольно не только вследствие государственных запретов, но также и потому, что отечественное искусство в подцензурной стране брало на себя функции политологические и идеологические. А также стремлением психологически одолеть всякого рода табу, навязываемые властью, ту гнетущую атмосферу бесчисленных ограничений личной свободы хотя бы в сфере сугубо частной жизни, и породили такую раскованность в трактовке эротической тематики, ломающую любые запреты. Эта раскрепощённость в середине 1930-х уже не была в нравах той жёсткой поры. Но художник не хотел и душевно не мог подчиниться диктату. В морозовской коллекции рисунков Валентина Юстицкого есть ещё две группы листов, не связанных с пушкинской тематикой. Одну из них условно обозначим как «пляжную». А другая – буквально несколько рисунков – отмечена нескрываемым ироническим отношением к советской действительности. Можно предположить, что эти листы автобиографичны. Они говорят о жизни художника времени их создания. Тоскливое и тревожное ощущение своей неукоренённости в тогдашней Москве, Юстицкий как бы компенсировал радостями летнего отдыха вдали от суетной столичной жизни. Укрывшись на лоне природы от навязываемого массового единомыслия, он с упоением предавался плотским удовольствиям, утехам полнокровной чувственности.
В большинстве этих пляжных рисунков, лишенных отрешённой идилличности, заметно стремление к откровенной и достаточно острой подаче образа, ощущение жизнерадостной уверенности в своей желанности и в своих ещё не истощившихся силах. Эти рисунки, отмеченные столь непосредственной жизненностью, существенно отличаются от виртуознейших эротических фантазий в рисунках из обширного цикла одряхлевшего Пикассо. Столь неприкрытая раскрепощённость воображения уже расходилась с меняющимися нравами утвердившейся тоталитарной эпохи. Сюжеты их по тому времени достаточно сомнительные, явно относящиеся к числу запретных. Прямо-таки совсем по-пушкински, с его безоглядной откровенностью, не знающей ложной стеснительности: «Я нравлюсь юной красоте / Бесстыдным бешенством желаний». Родство душ с поэтом и в этой перекличке.
Куда более дерзкая нелояльность по отношению к новому курсу властей, ощутима в немногих листах с выраженно политической окраской. По счастью они не попали в лапы «стражей закона» при его аресте. Иначе он получил бы те же 10 лет, но «без права переписки», что, как выяснилось позднее, всегда означало неизбежный и скорый расстрел. О насмешливой неприязни к отвердевающему тоталитарному режиму наглядно свидетельствуют эти сохранившиеся рисунки по мотивам современной художнику советской жизни. Все они тоже густо приправлены грубоватой эротикой. Первый из них, пожалуй, самый невинный эротически, но дерзкий политически, изображает тройку совершенно обнажённых крепконогих и полногрудых девиц, бодро вышагивающих с развевающимися красными флагами в направлении означенных больщевистскими вождями сияющих далей мирового коммунизма. Автор сам озаглавил этот лист: «Три грации для нашей агитации».
Во втором листе доблестный красный воин с винтовкой в руках азартно «штурмует» убегающую, даже скорее улетающую в свободном прыжке, крестьянскую девку, вооружённую для своей защиты лишь серпом. В третьем – не менее доблестный вояка в кубанке, при винтовке с приткнутым штыком на плече и с саблей в руке, расстегнув ширинку галифе пытается «обиходить» почти сомлевшую от таких нежностей барышню. Четвёртый лист (не менее хулиганистый) напоминает своеобразную пародию на уже упоминавшийся величественный монумент, созданный Верой Мухиной: на коленях стоит голышом тощий рабочий с молотом в руке, а на него отважно наезжает на коне молоденькая нагая колхозница в косынке и с серпом, угрожая им уж слишком гиперболизированному мужскому «достоинству» несколько растерянного пролетария.
Пятый же лист загадочный. Именуется он надписью: «Царь Гондон», обрамляющей голову восседающего на троне бородатого монарха с яблоком в руке над головой центральной из трёх обнажённых «граций», расположившихся у его престола. Судя по опечаленным лицам сидящих от неё слева и справа, именно она уже признана повелителем прекраснейшей. Владелец коллекции предположил, и вполне резонно, что это карикатура на Сталина, ибо ясно читаются с двух сторон увенчивающей надписи небольшие изображения серпа и молота. И впрямь – в какой другой стране использовалась тогда эта символика? А к середине 1930-х годов советский диктор уже обладал всей полнотой самодержавной власти. Убедительное подтверждение такого восприятия современниками сталинского единодержавия той поры случайно обнаружил в статье Пальчикова В.И. «Велимир Хлебников и палиндромическая поэзия в России». Цитирую: «В романе М.А. Шолохова „Тихий Дон“ (книга 4, часть 8, гл. 14) есть любопытный эпизод: „Эмблема советской власти – молот и серп, так? – Капарин палочкой начертил на песке слова „молот, серп“, потом впился в лицо Григория горячечно блестящими глазами: – Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков!“»10. Коммунист, предсказывающий в 1917 году окончательную победу серпа и молота, государственное самоутверждение царства большевиков, чертил это на зыбучем песке, но первая публикация «Тихого Дона» растянулась с 1928 по 1940-й год. И уже в самом начале её для многих стало самоочевидным, кто стал самодержавным правителем страны. А к середине 1930-х в этом уже не сомневался никто.
Анисимова говорила о частом и настойчивом цитировании Валентином Юстицким вслух характерных строк из поэмы (так она называла пушкинскую оду «Наполеон») о сатрапском удушении свободы: «И обновлённого народа / Ты буйность юную смирил, / Но возрождённая свобода, / Вдруг, онемев, лишилась сил; / Среди рабов до упоенья / Ты жажду власти утолил». Воистину: «Пушкин – наше всё…» (Аполлон Григорьев). Понятно, почему рисунки эти и всплыли из затянувшегося «небытия» так поздно. Возможно, что таких гротесковых изображений современности могло быть и больше, трудно сказать, как попал целый чемодан рисунков Юстицкого к его ученику, вполне, казалось бы, правоверному одарённому художнику Борису Боброву, который, уже в послевоенные годы руководил саратовским отделением Союза художников. Неясно, получил ли он его от Юстицкого или уже от Анисимовой? Как он сумел его сберечь, почему чемодан не забрал, возвратившись из лагеря, сам Юстицкий? Может, опасался он или его семья? Ведь памятны были повторные посадки. Отчего чемодан этот продолжал храниться в первой семье Б.П. Боброва, а вовсе не с ним – во второй? Листы из этого чемодана разошлись по коллекционерам от внука Бориса Павловича Боброва художника Бориса Глубокова, который говорил, что половину содержимого этого чемодана давно забрал в Москву его дядя по матери Александр Борисович Бобров, тоже художник. Можно предположить, что в столичные музейные и частные коллекции они попали из этого источника. Если, конечно, частично не были подарены самим автором своим друзьям и знакомым ещё до ареста.
Судьба очень медленно и трудно складывающегося «юстицковедения», увы, ещё окончательно не определилась. Думается, что делать итоговые выводы о значении его творчества пока рано. Хотя прошло уже достаточно много времени после его смерти, но среди художников его уровня он по-прежнему недостаточно известен. Особенно для большинства исследователей обеих столиц, где он не то чтобы позабыт, а скорее почти не узнан. Для осмысливающих его наследие осталось немало серьёзных вопросов. Сохранились ли его основные произведения ранней поры, созданные в Вильно, Париже, Москве, Костроме? А также и те, что экспонировались в советское время на зарубежных выставках? Знаем ли мы всё о работах саратовского периода – от его раскованного экспериментаторства первых советских годов до самых последних полотен? И ведь в лагере ему довелось исполнять заказные и копийные работы. Судя по его письмам, он относился к ним серьёзно, видя в них редкую в его условиях возможность существенно совершенствовать свою технику живописи традиционного искусства, обогащённую достижениями великих новаторов нового времени, прежде всего, Сезанна.
Боль и горечь пережитого, их неизбывность, иллюзорность призрачной свободы по выходе в «большую зону», где тоже оказалось совсем не сладко… Конечно же, невольно искусство его существенно трансформировалось. Полотна его последних лет нельзя сопоставлять с долагерными: это как бы работы уже другого художника. Таковы манерно-изысканные вариации позднего Юстицкого, смутные, нерасшифровываемые сполна. Мир внешний как опосредованное отражение мира внутреннего с налётом некоторой демонстративной элитарности, намеренно отрешённый от гнетущей реальности и начисто лишённый общезначимых в ту пору чувствований и переживаний. Рождается серия импровизированных живописных спектаклей в духе не то Ватто, не то Монтичелли, отдалённо перекликающихся с «карнавальной феерией» картин Башбеук-Меликяна. Любование красотой воображаемого с налётом таинственной недоговорённости.
Творчество Валентина Михайловича Юстицкого пережило годы запрета и относительного забвения. Оно трансформировалось в идиллическую, чуть ироничную мечтательность: «Мы уже дошли до буколик, / Ибо путь наш был слишком горек, / И бесплоден с временем спор». (Давид Самойлов). А спустя несколько десятилетий после смерти талантливого мастера, его искусство во всём его разнообразии, хотя и не всё целиком, снова вернулось к зрителям. И, думается, уже навсегда. Ибо оно выдержало жестокое испытание реалиями трагической эпохи и займёт своё место в художественном наследии ушедшего столетия.
1 Островский Григорий. Прогноз на прошлое // Окна: лит.-худож. приложение газеты «Вести». Тель-Авив, 1993. 22 июля.
2 Гинзбург Лидия. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 314.
3 См.: Водонос Ефим. Очерки художественной жизни Саратова эпохи «культурного взрыва». 1918–1932. Саратов, 2006. С. 51.
4 Брун М. (Марко – псевдоним Николая Михайловича Архангельского). Известия Саратовского Совета. 1923. 20 сентября.
5 Гинзбург Лидия. Там же. С. 319.
6 Там же. С. 320.
7 Сарнов Бенедикт. Скуки не было. Первая книга воспоминаний. М.: Аграф, 2004. С. 243.
8 Гинзбург Лидия. Там же. С. 314.
9 Валентин Юстицкий. Дело художника: альбом / вст. ст. М.И. Боровской. Саратов: Изд. Н.Е. Малыгин, 2014. С. 24-25.
10 Пальчиков В.И. Велимир Хлебников и палиндромическая поэзия в России // Велимир Хлебников и Калмыкия: cб. науч. ст. Элиста, 2003. С. 155.
Международная конференция «Искусство и власть». 2019.

В середине декабря 1934 года в Саратовское управление НКВД на ул. Дзержинского поступило заявление о подготовке к преступлению против советской власти.
«Посещая квартиру известного мне скульптора-художника Горшенина Никол<ая> Петрович<а> по Ленинской улице в доме № 125 я несколько раз заставал у него каких-то неизвестных мне лиц называвших себя студентами вентеренарного института Спиваком, Минеевым, и Пигаревым.
Они вели между собой контр-революц<ионные> разговоры. Один из них Спивак высказывался за необходимость убийства вождей партии. Они же сговаривались для каких-то контр-революционных целей нелегально бежат<ь> за границу и пытались в это вовлечь меня. Прошу принят<ь> меры к этим врагам СовВласти»[1].
Рукописный текст не датирован, но дважды подписан: «Юстицкий. Мой адрес Гоголевская 97 кв 2. Юстицкий В.М.».
К моменту написания этого заявления художник Юстицкий находился в фаворе. За несколько недель до событий, 26 октября 1934 года саратовский крайком выдвинул его во всесоюзный оргкомитет художников и направил в отдел культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) следующую характеристику:
«Тов. Юстицкий Валентин Михайлович имеет производственный стаж художника и педагога 17 лет. Среди художников Саратова считается одним из талантливых и культурных художников и пользуется авторитетом среди художников и студентов художественного техникума. Принимал участие в заграничных и московских выставках, имеет ряд ценных работ. Ведет педагогическую работу в художественном техникуме, активный общественник. Работает в качестве члена Оргкомитета художественной выставки»[2].

Скульптор Николай Горшенин, приглашавший гостей, по иронии судьбы, в будущий Дом художника, напротив, имел основания для недовольства властью. Его карьера достигла пика в 1932 году, когда горсовет доверил ему сделать памятник борцам революции. Проект уже был принят, газета анонсировала открытие монумента к 15-й годовщине революции, но что-то пошло не так, и предыдущий деревянный памятник, на месте которого должно было быть установлено произведение Горшенина, продолжал ветшать на центральной площади Саратова. Скульптор, ваявший ранее композиции «Звуки», «Ветер», а также бюсты Сталина, жил теперь, по собственному признанию, «частными заказами госучреждений и лиц».
Биография его нестандартна.
Николай Петрович Горшенин родился 9 мая 1904 года в Покровской слободе, родителей не помнил, беспризорничал. В 1919 году вступил в комсомол и отправился на фронт вестовым штаба 4-й армии. Служил конвоиром в Одессе, причем попал под трибунал за пьянство и продажу поясного ремня. Недолго был курсантом 12-й Ульяновской краснознаменной пехотной школы. В 1924-м демобилизовался, с 1925-го учился в Саратовском художественном техникуме и в 1930-м окончил Одесский художественный институт. Стал скульптором, вернулся в Саратов, участвовал в выставках, получал заказы, не бедствовал, нанял подмастерья.
Женился на бывшей воспитаннице детдома на 10 лет моложе себя, получил квартиру в шикарном доме на центральной улице Саратова и зачем-то поселил у себя трех юнцов, выгнанных из ветеринарного института.
В начале декабря 1934 года в гости к Горшенину стал заходить «профессор живописи», как он представлялся, Валентин Юстицкий. Что объединяло 41-летнего дворянина Юстицкого, 30-летнего беспризорника Горшенина и первокурсников-ветеринаров, непонятно. Однако в компании часто выпивали и вели такие разговоры, что в конце концов Юстицкий решил не ждать, пока его арестуют, а самостоятельно пойти в НКВД. В противном случае ему грозила уголовная статья за недонесение.
20 декабря Юстицкого допрашивал начальник IV отделения секретно-политического отдела УНКВД Лихачевский.
«Горшенина я знаю несколько лет. Он бывший беспризорник. По профессии скульптор-художник. Его политические убеждения мне до последнего времени были не известны. Спивака, Минеева и Пигарева – студентов Ветеринарного Института, как они себя называли, я не знал совсем. Познакомился с ними в квартире Горшенина в первых числах декабря 1934 года. Наше знакомство началось с того, что Горшенин, отрекомендовав мне Спивака, Пигарева и Минеева как хорошо ему знакомых приятелей, просил, чтобы я достал для Спивака и Пигарева, через какого-либо знакомого врача справки о том, что они больны малярией в течении целого месяца с ноября по декабрь. Я на это ответил, что такие справки врач, не видя больных, не даст. Я никакой помощи в том им не оказал. По приглашениям Горшенина, цель которых стала для меня ясной только впоследствии, я в течении декабря с/г посетил его несколько раз – 4 или 5.
4 декабря я, будучи у Горшенина, спросил его: думает ли он ваять Кирова. Горшенин ответил утвердительно, а воспользовавшийся этой темой разговора Спивак заявил: «Сегодня у всех траур, а у нас радость» и тоном сожаления добавил: «Мы думали, что уже Сталин лежит, а оказывается только Киров. Надо всех убивать и в первую очередь Сталина».
Это злобное, гнусное К<онтр>-Р<еволюционное> заявление Спиваком было сделано в присутствии Горшенина, Пигарева, меня Юстицкого и жены Горшенина – Нины, находившейся в комнате. Меня ошеломило такое заявление Спивака. Я тут же сказал присутствовавшим о недопустимости таких контрреволюционных заявлений, сказал, что за такие намерения привлекают к ответственности. И при этом спросил Спивака, который рекомендовал себя комсомольцем: “Как же вы комсомолец, а имеете и заявляете о таких намерениях?” На это Спивак ответил: “Ну и что же, я комсомолец, а смотрел, как я думаю” От Горшенина я вышел одновременно с Спиваком. Куда он направлялся, я не знаю, но пошел по пути со мной. Дорогой Спивак опять мне заявлял, что существующие условия в жизни в СССР нужно изменить, что для этого необходимо убрать – уничтожить руководящее ядро партии и советского правительства, что только тогда будет лучше. Тут же он мне говорил, что с такими убеждениями он не один, что у него есть единомышленники. Что он имеет возможность достать оружие. Что в случае какой-либо неудачи, он легко может нелегально перебраться в Румынию не только сам, но и помочь своим единомышленникам. В выходной день примерно дня через два, т.е. 6 декабря я зашел к Горшенину. Дома оказался сам Горшенин, его жена Нина, ученик Горшенина Сибикеев Михаил и названные мной студенты Спивак, Пигарев и Минеев. Я начал обсуждать с Горшениным вопросы его работы, а Спивак и Пигарев в это время, взяв тетрадь Горшенина, писали в ней фамилии членов правительства и контрреволюционно объясняя значение каждой буквы. Я, возмутившись этим, вырвал у них тетрадь, а Горшенин, взяв её у меня, вырвал лист, на котором они писали, и уничтожил его.
Спустя несколько дней, семь или восемь, кажется 14 декабря меня Горшенин пригласил зайти к нему. Я пришел перед вечером. <…> В разговоре Спивак стал говорить, что он родился в Галиции, что в 1933 году он был за границей в городе Вильно, где пробыл две недели, что он нелегально несколько раз переходил границу. Рассказал, как это делалось. Подробности я хорошо не помню. Затем Минеев сказал, что он тоже был за границей, что он якобы нелегально уходил в Афганистан, имея при себе много золота. И Спивак, и Минеев расхваливали жизнь за границей и заявили, что они намерены вновь бежать за границу и совместно с Горшениным стали уговаривать меня присоединиться к ним. Я категорически отказался, обругал их и отозвав Горшенина в его мастерскую, устроенную в теплом коридоре, стал ему упрекать в том, что он связался с какими-то неизвестными, крайне подозрительными и явно контрреволюционными типами.
Горшенин ответил мне, что этих людей он знает хорошо и им доверяет. Поняв, что меня хотят вовлечь в какую-то контрреволюционную авантюру, я оделся с тем, чтобы уйти. Тогда Минеев и Спивак начали меня предупреждать, чтобы о происходившем я нигде ни слова никому не сказал, угрожая в противном случае убийством.
Встретив на улице, на второй или на третий день после этого, Горшенина, я, пользуясь тем, что он один, еще раз пытался указать ему на недопустимость его поведения. Я ему говорил: “Ты советский скульптор, советская власть дала тебе знания, положение. Ты можешь создать себе известность, уже начал создавать. Что тебе делать за границей, зачем тебе связываться с какими-то преступниками и т.п.” Говорил, что даже сам нелегальный переход границы, по-видимому вещь не такая простая, чтобы это можно было бы легко и безнаказанно сделать. Но Горшенин в ответ на это мне заявил, что им нужно бежать за границу, что там они будут жить не хуже, чем в Советском Союзе, что Спивака, Минеева и Пигарева он знает, как опытных людей в этом деле».
25 декабря арестовали и скульптора Горшенина с женой, и трех живших у них студентов.
Горшенин сразу же стал рассказывать о планах бегства за границу, и чем они были вызваны:
«Я был связан с Спиваком Петром, Минеевым Алексеем и Пигаревым Александром студентами Саратовского Ветеринарного института. Основой нашей связи была общность антисоветских взглядов. [Они заключались] в стремлении жить по-буржуазному, а у отдельных из нас в частности Спивака Петра в резко выраженном контрреволюционном отношении к соввласти – ярким показателем этого является одно из заявлений Спивака Петра сделанное среди нас: “Надо уничтожить всю руководящую головку, тогда будет лучше”. Это относилось к вождям компартии и совправительству. <…>
В первых числах Декабря м-ца с/года, в моей квартире, по Ленинской улице в доме № 125 Спивак Петр и Минеев Алексей подняли вопрос об организации бегства из СССР. Намерение это ими видимо обсуждалось еще раньше, т.к. подняв об этом вопрос Минеев Алексей и Спивак Петр сразу же начали излагать план перехода границы. По их плану нам необходимо было собрать около ста тысяч /100000/ рублей денег с тем чтобы обменять их на золото, достать оружие и выехать всем в г. Кушка, Туркменской ССР, в районе которой совершить переход границы. Минеев говорил, что совзнаки на золото можно будет обменять через какого-то ему известного контрабандиста, живущего в Афганистане и занимающегося переброской контрабанды из Афганистана в СССР и обратно. После перехода границы мы должны были издать брошюрку с провокационными сообщениями о СССР.
На мое замечание, высказанное в момент осуждения этого плана, а если нас во время перехода границы поймают, то ведь расстреляют, Спивак ответил: “Ну и что же, пусть расстреляют”.
Я, вначале колебаясь дать согласие на их предложение, спросил: “А как к нам отнесутся за границей”.
Минеев меня успокоил, заявив: “пустяки они будут гордиться тем, что из Советского Союза бегут художники”».
На допросе также выяснилось, на какие средства заговорщики планировали перебраться через границу. Еще до переезда к скульптору Спивак, Минеев и Пигарев похитили из конторы Зернотреста две пишущие машинки, чтобы продать их в Астрахани за 30 тысяч рублей. Плюс Горшенин рассчитывал выручить за свои скульптуры 12 тысяч. «Недостающую сумму мы должны были получить путем совершения грабительских налетов на Урале и в Туркмении», – записано в протоколе допроса Горшенина.
О пишмашинках студенты узнали от Алексея Минеева, чья мать работала машинисткой в Зернотресте. Он же, вероятно, предложил бежать из страны через южную границу, т.к. летом 1932 года ездил к отцу в Ташкент и прожил у него месяц.
«Взяв карту, мы определили целесообразным организовать нелегальный переход границы в районе одного из городов, расположенных на афганской границе. С целью получения средств, я внес предложение похитить пишущую машинку в Саратовской конторе Зернотреста. Я Минеев, Спивак и Пигарев совершили покражу, но не одной, а двух пишущих машинок», – зафиксировано в протоколе допроса Минеева.
«Первоначально возникшую мысль о переходе западной границы СССР, мы отвергли по настоянию Спивака, доказывавшего, что западная граница СССР тщательно охраняется и нелегальный переход ее немыслим. Мы решили совершить нелегальный переход Юго-Восточной границы СССР в сторону Афганистана, считая, что в этом отношении она представляет больше возможностей, как якобы менее бдительно охраняемая», – через несколько дней подтвердил ранее сказанное Минеев.
Во время следствия также выяснилось, что никто из заговорщиков никогда не был за пределами СССР, за исключением разве что Юстицкого, который родился в Вильно, учился в Париже и жил в Берлине и Вене.
Алексей Минеев признался, что «за границей я нигде не был, но признаю, что на квартире Горшенина – ему, Спиваку и Пигареву в момент обсуждения плана организации нелегального перехода границы, я говорил, что будто бы был в Афганистане, границу которого нелегально переходил при содействии одного знакомого мне контрабандиста, с которым якобы познакомился в г. Ташкенте. В Ташкенте же я действительно был в 1932 г. Это обстоятельство способствовало тому, что нелегальный переход границы, мы решили совершить именно в сторону Афганистана в районе г. Кушка, в местности мне якобы уже известной. Тем более, что Пигарев Александр говорил, что он также хорошо знает окрестности города Кушка».
Александр Пигарев, бывший комсомолец, отчисленный из ветинтститута за прогулы, дал характеристику подельникам:
«Горшенин мне известен, с его слов, как бывший беспризорник, он старался завоевать авторитет у руководящих работников края. Для отдельных учреждений делал сравнительно за недорогую плату скульптурные работы.
Минеев Алексей – способный в академической успеваемости студент. На подготовительных курсах в ВУЗ был старостой группы. Как-то летом текущего года говорил мне что плохо живет с семьей, состоящей из его матери и неродного отца и какой-то старухи. Подробности своих неполадок в семье он не рассказывал.
Спивак Петр – непонятный для меня замкнутый человек. До последнего времени <…> он не нуждался в средствах, т.к. у меня не было денег, он оплачивал все мои расходы и записывал их в свою записную книжку. <…> Спивак, резко критикуя наше неважное материальное положение, упрекал меня и Минеева в том, что мы не умеем жить и при том высказываемся о стремлении попасть за границу. В такого рода обсуждениях принимал активное участие и поддерживал Спивака Минеев, говоривший, что он якобы однажды уже был за границей в Афганистане. Перспективами более лучшей жизни они предложили мне бежать вместе с ними за границу. Я на это дал свое согласие».
Со слов Пигарева выходило, что идеологом группы был Спивак:
«Я, Пигарев, до знакомства моего с Спиваком не был антисоветским человеком. В процессе знакомства с ним, он в ряде бесед о положении в СССР доказывал мне, что при советской власти свободы личности нет и хорошо жить невозможно. Роскошно жить можно только за границей. Впоследствии на этой почве я уже разделяя К.Р. убеждения Спивака, согласился на его предложение принять участие в К<онтр>-Р<еволюционные> работе. Предложение Спивака сводилось к тому, что нам необходимо бежать за границу, с тем, чтобы там начать К<онтр>-Р<еволюционную>деятельность, направленную против СССР. Спивак в квартире Горшенина Николая Петровича говорил: “Перейдем границу, явимся там к властям, заявим о том, что нам Советский строй ненавистен, и предложим свои услуги использовать нас для борьбы с ним”».
Арестованная жена Горшенина Нина Сергунина объяснила, откуда в переполненной коммуналке, где, кроме них с мужем, жили ее мать и сестра, взялись отчисленные студенты. Пигарев работал в жилотделе при горсовете и, вероятно, каким-то образом способствовал семье скульптора в получении квартиры.
По словам Сергуниной, студенты «на занятия в институт не ходили и говорили, что у них сейчас отпуск и занятий нет». Жена Горшенина вспомнила день, когда к ним домой пришел Юстицкий: «13 декабря была устроена выпивка, на которой присутствовали: Горшенин, Спивак, Пигарев, Алексей, профессор-художник Юстицкий и я. Алексей рассказывал о том, как он был заграницей и хорошо там жил один месяц. Алексей сказал, что он и Спивак собираются поехать за границу и начали вместе уговаривать Горшенина и Юстицкого ехать с ними за границу. Юстицкий к такому предложению отнесся со смехом и назвал их глупцами».
Нина уточнила, что у Минеева была кличка Алешка Тайфун, и все трое студентов «играли в лото, в карты, раза три устраивали выпивки, практиковались метанием ножа в дверь и иногда хулиганили». А также чистили пишмашинки, запирая при этом двери и запрещая хозяевам квартиры рассказывать об увиденном. Чистить хрупкие механизмы пришлось потому, что при переезде в квартиру Горшенина студентов остановил милиционер и поинтересовался, что они несут. Напуганные похитители утопили пишмашинки в дворовом сортире, а затем несколько дней подряд приводили их в товарный вид.
Конспираторы они были никудышные, поскольку об украденных машинках узнал даже подмастерье скульптора 16-летний Михаил Сибикеев. Он же рассказал чекистам, что студенты называли Николая Горшенина кличкой Колька Шабарша.
Следствие закончилось. Горшенин, Спивак, Минеев и Пигарев обвинялись в подготовке побега за границу. Им вменялись статьи 58-11 и 58-11 «а» УК РСФСР (всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений).
Сергунина, по версии следствия, «знала о подготовке указанных лиц к совершению этого преступления и укрывала последних, что подпадает под признаки ст. 58-12» (недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершённом контрреволюционном преступлении).
11 мая 1935 года в клубе им. Дзержинского началось судебное заседание, которое длилось с перерывами два дня.
Трое «студентов» признали себя виновными в хищении пишущих машинок, Пигарев – в том, что вел разговоры о поездке за границу, Спивак – в том, что не донес об антисоветских разговорах. Горшенин признался, что «скрыл воров», а его жена – единственная – вины не признала.
На суде Минеев вспомнил, что «во время выпивки Юстицкий стал рассказывать, что он родился в г. Вильно, бывал за границей. Спивак на это сказал, что он тоже был за границей. Спьяну я сказал, что тоже был за границей и весь вечер рассказывали друг другу, кто как жил за границей. Никто, конечно, этот разговор всерьез не принимал, никаких планов перехода границы мы не обсуждали. Выражаясь попросту, только “трепались” – и все. Был еще один случай разговора на эту же тему, но говорили о жизни за границей вообще и никаких конкретных планов перехода границы не обсуждали, никаких мотивов и причин для побега за границу у нас не было и мне казалось, что никто этих разговоров всерьез не принимал, средств на это не изыскивали».
Отвечая на вопросы членов трибунала, Минеев еще раз повторил: «Разговор о загранице первым начал Юстицкий, он говорил, что там хорошо живется, а затем этот разговор был подхвачен остальными. У кого первого возникла мысль побега заграницу – не знаю, считаю, что никто всерьез переходить границу не собирался. Это было просто пьяная болтовня, разговор велся бесцельно и безотносительно. Что бы мы стали делать заграницей, об этом разговора не было. Спор о том, какая граница лучше охраняется восточная или западная был, но это совсем не связывалось с вопросом перехода границы, я действительно в момент разговора подходил к карте, но не затем, чтобы показать, где перейти границу, а показывал, где я жил заграницей. На самом деле я не жил там – это только болтовня пьяного человека и хвастовство».
Пигарев: «Горшенин мне говорил в этот момент, что надо сказать ребятам, что бы они бросили болтать о загранице, а то узнает НКВД и могут подумать, что тут на самом деле что-то есть серьезное. Позднее в разговорах в пьяном виде Минеев говорил, что он жил в Афганистане, встречался там с турчанками и англичанками, ухаживал за ними. Я лично не придавал этому никакого значения, зная, что Минеев вообще любитель похвастать. Разговор о Кушке был, потому что я жил в Кушке в интернате. Никакого плана перехода границы у Кушки мы не намечали».
Антисоветские проявления отрицал и Горшенин:
«Я говорил Спиваку, Пигареву и Минееву – “Ребята, бросьте разговор о загранице”, – всячески старался их от этого удержать. “Уж если вам хочется заграницу, заплатите по 50 коп. и поезжайте в Немреспублику”.
Спивак был действительно сложная фигура, его трудно было разгадать. Он говорил, что у одного старателя на Урале есть 6 пудов золота, это золото надо достать. <…> Был такой случай, когда Спивак на листе бумаг напасал фамилии СТАЛИНА и ВОРОШИЛОВА и стал их расшифровывать в контрреволюционном смысле. Я у него эту бумажку вырвал и предложил ему убраться с квартиры. Когда читали газету об убийстве КИРОВА, Спивак сказал – “Мало их бьют” – Это все, что я слышал от Спивака.
У меня на квартире была выпивка, где присутствовали я, Спивак, Юстицкий и Минеев. Во время выпивки Юстицкий завел разговор о Вильно, Англии; разговор этот подхватили остальные и с этого началось. Начали говорить, что бывали за границей Минеев, Спивак. Цель и задач о переходе границы мы не ставили и заграницу бежать не собирались».
Николай Горшенин простодушно рассказал судьям о сделке со следствием, и удивительно, что эти сведения также попали в протокол: «То, что записано в показаниях, этого на самом деле не было. Это уловка следователя. Следователь рекомендовал давать ему эти показания для разоблачения кулака Спивака. Для этой цели я и давал эти показания. Я считал, что это моя обязанность, тем более, что следователь относился ко мне хорошо. Когда у меня не в чем было ходить, он дал мне туфли, которые сейчас на мне. Следователь мне даже обещал дать свидание с женой. В свою очередь, я шел следователю на уступку. Так, мы долго с ним рядились по вопросу о том, сколько я обещал денег на цели побега за границу, и сошлись на 12 тысячах рублей. На самом деле, я никаких денег давать не собирался».
Горшенин счел нужным пояснить свою гражданскую позицию: «Я заверяю трибунал, что никогда за границу бежать не собирался. Мне нечего там делать. А если бы мне надо было поехать за границу, я мог это сделать официальным путем, мне правительство Немреспублики давало заграничную командировку как художнику. Я выращен, воспитан и выучен советской властью и Красной армией, и никогда мои действия не были направлены против советской власти. Все мои произведения были направлены на борьбу с классовым врагом на пропаганду идей социализма, в искусстве я стою на точке зрения социалистического реализма и веду беспощадную борьбу с футуристами».
Очередь давать показания дошла до Валентина Юстицкого лишь вечером:
«Зайдя однажды на квартиру Горшенина, с которым я давно знаком, застал там выпивающими Горшенина, Спивака и Минеева. Во время этой выпивки они завели разговор о том, что они собираются перейти границу. Разговор носил резко контрреволюционный характер. Было это вскоре после убийства тов. Кирова. Наиболее остро в этом разговора вел себя Спивак. Все они, т.е. Горшенин, Спивак и Минеев собирались совершить побег заграницу. Когда же разговор зашел об убийстве тов. Кирова, Спивак сказал “надо и других вождей партии убить”.
Из их разговоров я заключил, что они предлагают и мне вместе с ними бежать заграницу. После этих разговоров я стал говорить Горшенину: “Одумайся, на что вы решаетесь”. Горшенин мне ответил, что он знает этих людей и знает, что делает.
Разговор о переходе границы был не один раз, но подлинные их планы мне известны не были. Слышал, что они для этой цели изыскивают средства. <…> По общему тону их разговора я заключил, что у них были серьезные намерения и держались они в этом отношении конспиративно. Верно, разговоры большей частью происходили во время выпивки, но сами выпивки были умеренными, и компания себя вела строго. <…>
С Горшениным я знаком лет 7-8. Раньше за ним ничего контрреволюционного не замечалось, по своим политическим взглядам он вполне советский человек и его последний поступок, связь с этой подозрительной группой людей – для него нехарактерен. Что творчество вполне советское и ярко-агитационного направления и содержания. Для меня кажется очень странным, как Горшенин мог впутаться в это дело. Жил Горшенин то очень шикарно, то слишком бедно, часто выпивали, а когда выпивал, то едва ли разбирался в компании, хотя определенно об этом сказать не могу. <…>
Конкретно они мне не предлагали ехать с ними заграницу, а говорили, что такой художник как вы загранице был бы ценен. Я это понял, как приглашение ехать вместе с ними. Вначале я к этому отнесся как к шутке, а позднее понял, что это не шутка. <…>
С Горшениным я дружил, как с человеком живым, общительным и всегда считал, что он способен делать ценные и хорошие в смысле художественном вещи. В то же время недостатком его считал его малый кругозор, отсутствие работы над собой. Он даже не читал художественной литературы. <…> При правильном направлении в работе из Горшенина выйдет хороший и способный художник».
В результате Спивак был признан виновным в контрреволюционной агитации. Горшенин, Пигарев и Минеев – в недоносительстве на Спивака. И кроме того, Спивак, Пигарев и Минеев – в краже имущества из государственного учреждения. Сергунина была оправдана.
Спивак получил 6 лет лишения свободы, Минеев – 4 года, Пигарев – 3 года. Горшенин был приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы, но в итоге, с учетом отбытого – к исправительно-трудовым работам сроком 10 месяцев и 9 дней с оплатой 80% заработка.
Спивака, Минеева и Пигарева оставили в тюрьме, а Горшенина выпустили под подписку о невыезде.
Валентин Юстицкий был уволен из художественного техникума еще 30 января 1935 г. «За систематические прогулы (первый квартал 52 часа), срыв производственной программы, за игнорирование административных распоряжений, за злостное умышленное игнорирование общественной работы (нежелание участвовать в пед<агогических> совещаниях, заседаниях). За разлагающую работу среди студенчества, пьянку и втягивание студентов, тов. Юстицкого снять с работы преподавателя живописи», – говорилось в приказе за подписью В.И. Никитина[3].
Через 10 лет, в «Заметках об училище»[4] Никитин написал об истинных причинах увольнения Юстицкого: «Формализм, другие измы, богема процветали в то время в училище. Учебы серьезной не было, а было натаскивание, вкусовщина. Была ставка на мастера, хотя это ничем не обеспечивалось: ни программами, ни постановкой педагогического процесса, ни методами воспитания. Авторитеты художников-классиков не существовали, их не признавали, будь он русский, француз, итальянец любого века. Репина Юстицкий называл иллюзионистом и т.п. <…> Представители педагогического коллектива поддерживали идеологическую направленность «Искусство для искусства», «Искусство беспартийно и т.п.» (Уткин, Юстицкий). И так было до 1930 года. <…> Оказавшись у небольшого руля, я принял следующие меры: 1) стал создавать более или менее здоровый, квалифицированный коллектив педагогов. Для этого настоял на приглашении в училище Щеглова И.Н., закреплении Белоусова и обязательном введении общеобразовательных дисциплин <…> 2) Добился введения школьного режима <…> и даже ввел звонки (что крайне возмущало Юстицкого) <…> Переходить к этому было очень трудно, так как заражены были измами, левизной не только педагоги (Юстицкий, Егоров и др.), но и целое поколение учащихся».
Чем Юстицкий занимался после января 1935 года – пока не установлено. 3 октября в газете «Коммунист» появилась заметка о том, что «Саратовский краевой санаторно-курортный трест приступает к художественному оформлению курортов края. Организована специальная бригада художников под руководством худ. В.М. Юстицкого… Вся предварительная работа должна быть проделана в течение зимы с таким расчетом, чтобы художественное оформление было закончено к началу курортного сезона 1936 года». Однако известно, что Юстицкий покинул Саратов в 1935 году и переехал в Каширу.
Встречались ли после суда дворянин Юстицкий и беспризорник Горшенин, неизвестно.
Как сложилась судьба осужденных «студентов», не смогла выяснить и Саратовская областная прокуратура, которая реабилитировала их в общем порядке в 1993 году.
Памятник, установленный в центре Саратова на братской могиле жертв революции, надолго стал головной болью для местных властей. В первую годовщину переворота, 7 ноября 1918 года, над кирпичным склепом установили деревянный обелиск с тремя винтовками и шлемом на вершине. Захоронения там производились с 26 мая 1918 до 21 мая 1921 года. Тогда памятник находился недалеко от задней стены Радищевского музея.
Монумент по проекту Горшенина, как мы помним, в ноябре 1932 года так и не был воздвигнут.
«Могила борцов революции на площади Революции никем не охраняется. Венки растащены. Склеп превращен в притон “шпаны”. Такое позорное отношение к памятнику революционерам нетерпимо. Нужно немедленно обеспечить охрану могилы и сурово наказать людей, допустивших безобразие», – писала газета «Саратовский рабочий» 4 ноября 1932 г.
Весной следующего, 1933 года «президиум горсовета предложил… в 5-дневный срок привести в порядок памятник и сквер и обеспечить ежедневную уборку сквера. Лесопарковый комбинат разбивает вокруг памятника газон. К первому мая сквер будет освещен. В сквере установлен круглосуточный пост милиции»[5].
В мае 1934 г. горсовет объявил новый конкурс на памятник, на этот раз с участием «комиссии красных партизан и красногвардейцев». И опять ничего не вышло. Деревянная конструкция продолжала ветшать и рассыпалась в 1935 году. На ее месте долго лежала каменная плита, которая исчезла при строительстве бомбоубежища под площадью Революции. Современный памятник работы скульптора В.И. Перфилова был открыт лишь 7 ноября 1957 года.
Рядовой Николай Горшенин ушел на фронт 5 сентября 1941 года. Стрелок был призван Кировским райвоенкоматом в команду № 350, и дальнейшая судьба его неизвестна. Жена не получила от него ни одного письма. В 1951 году военком сообщил Нине Сергуниной: «Считаю возможным учесть Горшенина Николая Петровича пропавшим без вести в ноябре 1941 года».
[1] Здесь и далее цитируется уголовное дело ОФ-35155.
[2] ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 112.
[3] Никитин Владимир Ильич (1896–1960-е?) – с 1923 г. педагог, с 1928 г. – завуч Саратовского художественного училища. Член Союза художников с 1939 г.
[4] ОХАМ СГХМ им. А.Н. Радищева. Ф. 369. Оп. 2. Ед. хр. 160. Л. 119-120.
[5] Саратовский рабочий, 27 апреля 1933 г.

23 апреля 1937 года в Москве был арестован Валентин Юстицкий – живописец и график, сыгравший важную роль в художественной жизни послереволюционного Саратова. За день до ареста Юстицкий зашел в пивную, где, по версии чекистов, стал вести «контрреволюционную троцкистскую агитацию, высказывая при этом настроения террористического характера»[1]. Следствие длилось до июня 1937 года, художник вину не признал, несмотря на показания трех свидетелей. В августе суд приговорил Юстицкого к 10 годам лагерей.
Валентин Юстицкий участвовал в столичных выставках футуристов с 1916 года, но мэтром он стал в Саратове, куда в 1918 году он был командирован как представитель «пролетарского искусства». Здесь Юстицкий заведовал отделом изобразительных искусств местного Пролеткульта и преподавал живопись. В 1921 году художник стал профессором Высших государственных художественных мастерских. В 1923 году Юстицкий поступил преподавателем в Саратовский художественно-практический институт, переименованный затем в художественно-промышленный техникум.
Считалось, что до отъезда из Саратова в биографии Валентина Юстицкого были лишь творческие достижения. Однако в фондах Государственного архива новейшей истории Саратовской области сохранилось уголовное дело[2], заведенное на художника в относительно спокойном в политическом плане 1930 году.
23 апреля – по необъяснимому стечению обстоятельств в тот же день, что семь лет спустя – преподаватель живописи стал объектом внимания чекистов. Старший уполномоченный секретного отдела ОГПУ Подтынков[3] постановил произвести обыск и арест Валентина Юстицкого, который подозревался в «систематической антисоветской агитации против существующего строя». На следующий день художник был арестован в своей квартире по адресу: Гоголевская, 97, кв. 2. При обыске, который производили сотрудники ОГПУ Егоров и Николенко, а также понятая счетовод управления РУЖД Евгения Пономарева, ничего изъято не было. Обычно при обысках тех лет у подозреваемых по антисоветской статье забирали документы, личную переписку и запрещенные книги, однако в описи изъятого у Юстицкого содержится единственная запись «Ничего не обнаружено».

27 апреля Подтынков подписал постановление об избрании Юстицкому меры пресечения – содержание под стражей в саратовском изоляторе. Обвиняемый по-прежнему подозревался в «систематической антисоветской агитации против Соввласти» и в том, что «находясь на свободе, может помешать ведению следствия». Художнику вменялась статья 58-10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти).
На первый допрос Валентин Юстицкий был вызван лишь 28 апреля. В анкете, заполненной рукой Подтынкова, указаны год рождения художника – 1894-й и происхождение – «из мещан г. Петербурга, русский». После второго ареста Юстицкий сказал на допросе, что родился в 1892 г., однако, скорее всего, умышленно исказил эту информацию[4]. По какой причине художник неоднократно менял в документах год своего рождения, еще предстоит выяснить.
Далее в анкете следует образовательный ценз – «Высшее специальное художественное – окончил Виленское художественное училище». Об учебе в Париже подследственный не сообщил.
В графе «партийность и политические убеждения» записано «Беспартийный, убеждения имею коммунистические».
Дальнейшие сведения касаются биографии арестованного. Юстицкий указал, что до войны 1914 г. «в г. Вильне учился в художественном училище», с 1914 г. до февральской революции 1917 г. «в г. Москве и Ленинграде работал на художественных выставках», в февральской революции «в г. Москве, активного участия не принимал», с февральской до октябрьской революции «в Москве работал на художественных заказах», и октябрьскую революцию встретил «в г. Ленинграде, участия активного не принимал».
Далее Юстицкий «до 1918 г. работал в Агит”отделе Губвоенкомата, с 1918 г. в г. Саратове завед<овал> ИЗО пролеткульта до 1920 г., с 1920 г. в полит”отд<еле> Дон<ской> Обл<асти> завед<овал> худ<ожественным> отд<елом> и в полит”отд<еле> РУжд до 1921 г. С 1921 г. профессор живописи в Сар<атовском> Худ<ожественном> Ин<ститу>т<е> до 1925 г., с 1925 г. до настоящего времени руководитель Худож<ественного> Сар<атовского> техникума».
Вероятно, «руководителем» Валентин Юстицкий назвал себя в творческом плане, т.к. числился преподавателем и короткое время – заведующим учебной частью техникума.
Единственный допрос в рамках первого уголовного дела Юстицкого, записанный рукой следователя, воспроизводится дословно, т.к. иногда непонятно, что Подтынков имел в виду:
«Мой отец был присяжным поверенным умер в 1912 году в г. Вильне, последний имел дом какой-то лес, вообщем какую-то собственность, которая мне не известна, но только помню, что когда отец умер, то мать переехала в небольшую квартиру и проживая в нужде, как видно это имущество было какое-то запутанное и в долгах. Имею двух родных сестер Марию и Нину[5], но где они находятся мне совершенно неизвестно, т.к. связи и переписки с ними не имею. Две мои двоюродные сестры Лидия Александровна и Кира Александровна Юстицкие теперь вышли замуж и фамилии по мужу не знаю которые еще до рев<олюции> в данное время проживают в Париже – Франция. С этими сестрами я совершенно не имею связи и не переписываюсь.
Из близких знакомых в г. Саратове имею Егорова Евгения Васильевича[6] – художника, знакомых же вообще по городу у меня очень много. При общении со знакомыми разговоров на антисоветские темы не было, но политические разговоры были, но вопросы касались исключительно идеологического порядка, связанные с искусством и против политики и мероприятий Соввласти я никогда не слышал и сам не вел, все это мной указывается про художественный техникумом.В 1928 году зимой из г. Москвы приехал художник Яковлев Алексей, который оказался адм<инистративно>-высланным по линии ГПУ, но сам же он об этом не говорил, а потому у меня сложилось впечатление, что он выслан за хулиганство, после этого я с ним встречался раза два. В начале апреля м<есяца>ца с/г. он мне звонил по телефону на службу и Сапожникову Алексею Алексеевичу[7], просил придти к нему в ГосИздат, где выдавал себя за зав<едующего> худ<ожественным> отд<елом> и предлагал нам большие работы по издательству плакаты каррикатуры и иллюстрации. После этого я с ним стал встречаться чаще, но работу не давал. В беседе с ним выяснилось, что он из Москвы выслан по 58 ст<атье> но за что так до сего времени и не сказал. Я рассчитываю, что мой арест связан со встречей с людьми с контр-революционным прошлым».
Из последней фразы следует, что обвиняемому не объяснили причину его ареста, рассчитывая, видимо, на то, что он сам даст показания о себе и своих знакомых. И Юстицкий упоминает на допросе художников Евгения Егорова, Алексея Сапожникова и Яковлева.
Несмотря на то что Яковлев находился в Саратове в ссылке, ОГПУ совершенно не контролировало его деятельность. Так, арестованный в 1933 г. художник Александр Скворцов обвинялся в том, что был якобы завербован Яковлевым в контрреволюционную организацию в 1930-м. Юстицкий называет Яковлева Алексеем, а более тесно общавшийся с ним Скворцов правильно – Леонидом.
Как записано в обвинительном заключении, «Скворцов и Яковлев разрабатывали методы вербовки и глубокой конспирации к.-р. организации, строя ее по принципу “цепочки”, при этом Скворцов получил от Яковлева установку на дальнейшее расширение к.-р. организации, с конкретными заданиями объединения в нее недовольных Соввластью, с тем, чтобы подготавливать кадры для активной борьбы с Соввластью»[8].
Чекисты хватились Яковлева только после показаний Скворцова, но было уже поздно. В марте 1933 г. из Саратова поступил запрос в столичный Транспортный отдел ОГПУ: «Принятыми мерами о Яковлеве нами добыты следующие сведения: Яковлев Леонид Дмитриевич, 1898 года рождения, по профессии художник, прибыл в Саратов из Москвы, дата приезда неизвестна. В 1930 году в г. Саратове работал в Крайисполкоме и затем в ОГИЗ’е[9]. До 1930 года адрес местожительства Яковлева в Саратове не установлен. <…> За время пребывания Яковлева в Саратове к нему из Москвы приезжала его жена и мать.
В настоящее время Яковлев Л.Д. по некоторым данным находится в Москве, куда выехал 30-го Января 1931 года.
ДТООГПУ Р.У.ж.д.[10] просит срочно установить в Москве указанного выше Яковлева и ориентировать нас о всех имеющихся материалах на него по Москве. Если же Яковлев по материалам наших органов в Москве не проходит, то просьба такового арестовать и спец. конвоем направить в Саратов»[11].
Запрос саратовских чекистов их московские коллеги проигнорировали. «Принятыми мерами Яковлев не установлен и ответа из Т<ранспортного> О<тдела> ОГПУ о результатах нашего запроса – не получено, почему Яковлева допросить, а также и привлечь по настоящему делу – не представилось возможным»[12], – говорится в обвинительном заключении по делу Скворцова и др.
Упомянутые Юстицким преподаватели художественного техникума Евгений Егоров и Алексей Сапожников не заинтересовали следственные органы. То, что Сапожников через несколько лет переехал в Москву, а Егоров – в Подмосковье, скорее всего, говорит о том, что атмосфера в учебном заведении становилась все более тяжелой, а больше работать в Саратове было попросту негде.
Допрос Юстицкого завершился 28 апреля, и на следующий день опер Подтынков прекратил дело против художника, поскольку «в процессе предварительного следствия факт преступности не был установлен». Тем же постановлением Валентин Юстицкий был освобожден из-под стражи.
Кратковременное пребывание в тюрьме никак не отразилось на официальном статусе художника. До 30 января 1935 г. он продолжал преподавать живопись в Саратовском государственном художественном техникуме. В том же году Валентин Юстицкий переехал в подмосковную Каширу и стал сотрудничать со столичными издательствами, пока в 1937 г. не был арестован и осужден по той же «антисоветской» статье 58-10, что и семь лет назад в Саратове.
[1] Цит. по: Валентин Юстицкий. Дело художника. Альбом. — Саратов, 2014.
[2] ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. Д. ОФ-1963.
[3] В дальнейшем Подтынков сменил место службы. В 1936 г. он входил в спецколлегию Саратовского краевого суда, осудившую за антисоветскую деятельность Пугачевского епископа Стефана (в миру Василия Илларионовича Виноградова (1866–1938)). См.: М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская голгофа: Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период. – Томск, 2004. C. 124.
[4] Червякова О.Н., Юстицкая Т.В. Новые материалы к биографии художника В.М. Юстицкого на основании документов из архивов Санкт-Петербурга, Гродно и Вильнюса // Открываем коллекции. XV Боголюбовские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. — Саратов, 2017. C. 196–206.
[5] Помимо Валентина, в семье было еще четверо детей: Мария (1896 г.р.), Борис (1897 г.р.), Нина (1903 г.р.) и самая младшая Варвара.
[6] Егоров Евгений Васильевич (1901, Саратов – 1942, Саратов) – ученик Валентина Юстицкого. С 1923 по 1933 г. преподавал в Саратовском художественном техникуме. Переехал в Дмитров, а затем в Москву. После начала войны эвакуировался обратно в Саратов.
[7] Сапожников Алексей Алексеевич (1888, Пенза – 1954, Москва) – художник, с 1917 г. жил в Саратове, с 1925 по 1929 г. преподавал в Саратовском художественном техникуме. В 1932 г. переехал в Москву.
[8] Уголовное дело ОФ-15148 по обвинению художников Александра Скворцова, Виталия Гофмана, Ивана Щеглова, а также Константина Гаврилова, Андрея Попова и Нины Степановой-Скворцовой (окончено 29 апреля 1933 г.)
[9] Объединение государственных книжно-журнальных издательств.
[10] Дорожно-транспортный отдел ОГПУ Рязано-Уральской железной дороги.
[11] Уголовное дело ОФ-15148.
[12] Там же.
Опубликовано в журнале "Волга", №5, 2020.