Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
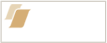
А.В. Скворцов : [График] - Л. : Художник РСФСР, 1985
.jpg)
А. В. Скворцов : [График] / Е. И. Водонос. - Л. : Художник РСФСР, 1985. - 35 с. : портр., 14 л. ил., цв. ил.; 21 см.; ISBN В пер. : 65 к.
Персоналия: Александр Васильевич Скворцов
Светлой памяти Нины Степановны Скворцовой-Степановой
Саратовский график Александр Васильевич Скворцов был одним из значительных мастеров офорта. Скромное, лишенное какой бы то ни было притязательности, его искусство просто и искренне повествует о жизни окружающей природы.
Волга, ее неоглядные просторы, бесчисленные рукава и протоки, лесистые острова, песчаные отмели и мягкие, плавные повороты, ее неспешный, величавый ход стали для Скворцова неиссякаемым источником вдохновения. Сотни листов говорят о том, как упорно, изо дня в день, в течение четырех десятилетий, отпущенных ему судьбой на творчество, изучал художник особенности волжского пейзажа.
Каждое из его произведений – результат «любовных бесед с натурой», бесед, которые никогда не прекращались и не надоедали художнику. Для Скворцова любой мотив уже сам по себе обладает несомненной поэтической ценностью. А потому он так упорно добивается повышенной убедительности графического их воссоздания.
«И чем дольше всматриваешься в его произведения, тем больше понимаешь всю глубину его чувства, тем больше увлекает тебя увиденная им красота, передается его настроение. [...] Так правдиво и с таким чувством изображена им природа, что подчас забываешь, что это только гравюры, отпечатанные на бумаге».[1]
Творческий путь Скворцова, охватывающий очень несхожие между собой этапы нашего искусства, отличается удивительной внутренней целостностью.
Сохранилось интересное письмо молодого, только начинающего саратовского художника маститому столичному граверу М. А. Доброву. Скворцов благодарит старшего товарища за участливое внимание к своим произведениям и вместе с тем сдержанно, но с достоинством и убежденностью отстаивает свои жизненные и творческие принципы: «Вы пишете, что я очень скромен в своих работах и что это не сулит лавров триумфатора. Все это правда, и я понимаю, как трудно выбиться на дорогу молодому художнику, не выкидывая «антраша».
Это дает чувствовать себя и здесь, в Саратове. Но, к сожалению, не имею тех необходимых данных, я бы сказал врожденных, чтобы можно было бы ради получения известности и некоторых благ ломать себя и делать то, что я по своему характеру не могу сделать».[2]
А судьба Скворцову выпала нелегкая. Он знал затяжные периоды горьких разочарований и недовольства собой. Изведал немало житейских неурядиц и тягот. И все же люди, близко знавшие его, сходятся на том, что прожил он интересную и красивую жизнь.
Начиналась же она на редкость неблагоприятно.
Родился он в селе Никольском Енотаевского уезда Астраханской губернии 3 сентября 1894 года. Отец его, мелкий служащий, умер в декабре 1895 года. Мать, женщина неграмотная, сразу переехала в Астрахань, где принуждена была поначалу довольствоваться случайным заработком. Нередко ей приходилось запирать в комнате голодного плачущего мальчика на весь день. Это расшатало здоровье ребенка, сделало его излишне впечатлительным, замкнутым, легко ранимым. Постепенно все изменилось к лучшему. Мать стала портнихой, работу брала на дом. Сын подрос и целыми днями рыбачил на Волге. Рыбачил всерьез, не ради развлечения. Да и дома не сидел без дела: выпиливал, выжигал, лепил. Рыбалка и тяга мастерить сопровождали Скворцова в течение всей жизни.
С 1902 по 1910 год он посещал школу. Любимым предметом мечтательного застенчивого мальчика была география. Но мечты о путешествиях в далекие страны навсегда остались только мечтами [3]. В жизни все обернулось прозаичней: с июля 1910 года юноша стал конторщиком астраханского отделения пароходного общества «Кавказ и Меркурий». Так начал он свой трудовой путь. Первая мировая война застала Скворцова в той же должности в казначействе села Ремонтное Астраханской губернии. В мае 1915 года его мобилизовали. В качестве ратника ополчения он до января 1916 года служил в Царицыне. Освобожденный по болезни, Скворцов возвращается в Ремонтное, где работает бухгалтером. Послужной список не предвещает пока карьеру художника. Но это только внешняя сторона жизни. Внутренний же ее смысл был совершенно иным. Хотя к Скворцову наконец-то пришел достаток, он тяготился службой, сторонился развлечений своих коллег, мечтал об ином, духовно обогащающем занятии.
В Ремонтное приходили книги, выписанные из столичных городов: Скворцов упорно занимался самообразованием. Именно здесь он внимательно перечитал русскую классику, познакомился со многими шедеврами зарубежной литературы. Должно быть, и детское увлечение рисованием не было случайным: все эти годы Скворцов самостоятельно занимался живописью. Поэтому и вернулся он в августе 1918 года в Астрахань, где сразу же начал посещать студию П. А. Власова, который в 1890-е годы был учителем Б.М. Кустодиева. Занятия у престарелого живописца показались Скворцову не очень-то увлекательными, и вскоре он перешел к П.И. Котову, недавнему выпускнику петербургской Академии художеств, поселившемуся в ту пору в Астрахани.
Очевидно, профессиональная подготовка Скворцова была слабой: поначалу он совсем не понимал требований учителя. Мучительно переживая свою беспомощность, крайне застенчивый, Скворцов не решался с кем-либо поделиться горестными раздумьями. Порою приходила мысль оставить живопись. Часами одиноко бродил он ночным городом, пытаясь понять причину неудач. Перелом наступил нелегко и не сразу. Не скоро еще молодой художник услышал ободряющее слово и похвалу учителя...
Со временем Котов по достоинству оценил творческую одаренность и тихое упорство Скворцова. Именно его да еще С. М. Мочалова, ставшего впоследствии интересным ксилографом, он особенно выделял среди астраханских своих учеников. Но Котов никогда не одобрял страстного их увлечения гравюрой, считая обоих талантливыми живописцами.
Судя по сохранившимся документам, в годы учебы Скворцов постоянно где-то работал: бухгалтером, секретарем ученого совета Астраханских государственных художественных мастерских, художником-постановщиком Астраханского театра революционных исканий, заведующим секцией охраны памятников искусства и старины, заведующим художественным отделом Губполитпросвета. В этой последней должности он активно содействовал пополнению собрания местной картинной галереи произведениями ведущих московских художников. Жизнь его той поры была яркой, радостной и напряженной. Атмосфера в Астраханских мастерских благоприятствовала не только стремительному росту в избранной специальности, но также и выработке широкого гуманитарного кругозора. «Работа в студии была обставлена так, что мастерская для каждого была родным домом, откуда не хотелось уходить [...]
Еженедельно, по субботам, в студии устраивались художественные вечера, в оформлении которых без особых приглашений принимали участие все артистические силы, посещавшие Астрахань», – записывал явно со слов Скворцова один из ранних исследователей [4].
Светлые годы молодости, яркая творческая среда, первые успехи, окрыляющие художника, дерзкие мечты, фанатическая преданность искусству. Скворцов много рисует, работает акварелью, пишет массу живописных этюдов, запоем читает книги о мастерах прошлого, знакомится с лучшими музеями страны, посещает мастерские столичных живописцев.
К сожалению, работ астраханского периода не сохранилось. Но, видимо, учеба шла успешно, ибо к 1922 году Скворцов уже озабочен переездом в Петроград для продолжения художественного образования. Об этом свидетельствует любопытный, вполне в стиле эпохи документ: «Дано сие гр. Скворцову А. В. в том, что он состоял учеником в студии Г.С.П.С. с 1918 по 1919, затем студентом Высших государственных живописных мастерских имени Губпрофсовета г. Астрахани с 1919 по 1921 г. и учащимся живописного ударного техникума имени Астраханского губпросвета с 1921 по 1922.
За время пребывания в указанных учебных заведениях показывал отличные успехи и отменное прилежание в работе, и согласно постановления учебной комиссии считается окончившим Ударный Государственный живописный техникум в июле 1922, а потому вполне подготовлен к поступлению в Академию художеств, что удостоверяется подписями и приложением печати» [5].
Поехать в Петроград не привелось. Этому решительно воспротивилась мать художника. У нее были серьезные опасения о здоровье сына, и она настаивала на выборе другого города – и ближе к Астрахани, и с более подходящим климатом. Видимо, поэтому с 1923 года А. В. Скворцов стал студентом Саратовского художественно-промышленного института.
С этим городом связана вся его последующая жизнь, все творческие успехи и неудачи, все житейские радости и горести.
С учебой ему здесь явно не повезло: институт был в тот же год переформирован в техникум, который он и закончил по классу живописи в июле 1924 года.
Поначалу Скворцов определился в мастерскую популярного педагога В.М. Юстицкого.
«Это был живой талантливый, темпераментный художник. Быстрый в своем творчестве, излишне самолюбивый, он всегда гнался за чем-нибудь новым. Отсюда и дефекты: отсутствие глубины, подражательность, неоправданные выкрутасы. Работы его – всегда дискуссионные – смотрелись с большим интересом и, наряду с дарованием, он обладал большим художественным вкусом. Я встретился с ним после Октябрьской революции и испытал на себе некоторое его влияние. Правда, отталкивался я от него в противоположную сторону...» –так вспоминал Юстицкого его тогдашний коллега по техникуму художник Б. А. Зенкевич [6].
Оценка деятельности Юстицкого и как художника, и как педагога никогда не была однозначной. Диапазон мнений – от безудержной восторженности до безоговорочного осуждения – достаточно широк. Зенкевич далек от крайностей. Мнение его приводится вовсе не из-за трезвой, несколько отстраненной и холодноватой объективности. В самом существенном оно совпадает с мнением Скворцова. После Власова и Котова Юстицкий показался Скворцову слишком экстравагантным и не очень серьезным для педагога, руководителя мастерской. И в искусстве, и в методике преподавания этого мастера Скворцову виделось то самое стремление выделывать «антраша», которое было глубоко чуждо его натуре. Не отрицая яркости и талантливости Юстицкого, Скворцов, подобно Зенкевичу, предпочитал развиваться, «отталкиваясь от него в противоположную сторону». Их отношения обострились, и вскоре молодой художник подал прошение о переводе в мастерскую П.С. Уткина. Кажется странным, что такой поэтичнейший пейзажист, как Уткин, обаяние искусства которого столь очевидно в раннем творчестве большинства его учеников, почти не затронул своим влиянием Скворцова, который, должно быть, интуитивно почувствовал, что уткинский лиризм окрашен несравненно большей субъективностью, чем та, которую подсказывали ему и собственный предшествующий опыт, и самый склад его дарования. Скворцов стремился к эмоциональному, но точному отображению природы. Уткин – к ее преображению.
У Скворцова не могло быть «воображаемых» пейзажей. Он смолоду стремился к точности воссоздания мотива. Ему присущи высокая степень конкретности, чувственно-достоверное воплощение видимого. Природа для него – объект поэтического постижения и только. Никакой скрытой аллегории, подспудной символики в скворцовских пейзажах не отыскать.
Художественное мировоззрение Скворцова в самых существенных чертах сложилось еще в Астрахани, и, должно быть, поэтому последующая учеба у талантливых саратовских мастеров не оставила заметного следа в его творческой биографии. Ни одного из них нельзя считать непосредственным учителем Скворцова.
К 1923 году период «бури и натиска» в художественной жизни города кончился. Саратов покинули А.Е. Карев, Ф.К. Константинов, А.М. Лавинский, А.И. Кравченко, А.И. Савинов, П.К. Ершов, М.В. Кузнецов, Д.Е. Загоскин и многие другие художники, задававшие тон на выставках, в творческих дискуссиях и даже в учебном процессе первых послереволюционных лет. Резко выросла роль молодых. Некоторые из них сами стали преподавателями: Е.В. Егоров, Б.В. Миловидов. К середине 20-х годов молодежь явно преобладает и на городских выставках. С этой поры участвует на них и Скворцов. Хотя он закончил живописный факультет, самостоятельное творчество начал как график.
В широких, чуть «смазанных» линиях тогдашних его карандашных рисунков («Забор», «За самоваром», «Джек», «Дворник», «Монастырка», «Весна», «Стволы», «Лодка на берегу») мягко, но настойчиво выявляющих форму, легко угадывается увлеченность рисунками Б. А. Григорьева.
Скворцов больше никогда не уделял такого внимания самостоятельному рисунку. Рисовал он всегда много, но позднейшие рисунки, как правило, ориентированы на создание гравюры, являясь по сути эскизами будущих печатных листов. Рисунок в его суверенном значении не будет уже играть сколько-нибудь заметной роли в творческих исканиях художника.
С 1930-х годов он известен исключительно как гравер и более всего как замечательный офортист.
В Саратове увлечение гравюрой во многом связано с деятельностью А. И. Кравченко, который в 1918–1921 годах возглавлял Радищевский музей и одновременно руководил графическим факультетом местного Вхутемаса. Когда Скворцов переселился в Саратов, Кравченко был уже в Москве. На время оставил преподавательскую работу и его ассистент Зенкевич. Но интерес к печатной графике в Саратове не угас. Вскоре здесь возник кружок любителей графических искусств, который провел ряд интересных выставок. Целями кружка, если верить объявлению, были «популяризация и изучение произведений графических искусств и печатного дела» [7]. К началу 1923 года им была подготовлена выставка русской гравюры, на которой экспонировались листы ведущих граверов: В.А. Фаворского, А.И. Кравченко, Н.Н. Купреянова, П.Я. Павлинова, А.П. Остроумовой-Лебедевой, И.И. Нивинского. Вскоре в техникум вернулся Зенкевич. Он прошел трехмесячную стажировку во Вхутеине и увлеченно взялся за оборудование в Саратове литографской мастерской. Литографией «переболели» тогда многие местные художники, но сколько-нибудь устойчивой традиции ее в городе так и не сложилось.
Недолгое увлечение этой техникой пережил и Скворцов. На юбилейной его выставке 1974 года экспонировались два литографских листа тех лет: «Автопортрет», очень трезвый и очень еще имитирующий обычный карандашный рисунок, а также романтический пейзаж «Солнце встает. Монастырка», с довольно наивным подчеркиванием именно гравюрной «напечатанности».
Несравненно более глубоким и длительным было увлечение линогравюрой и ксилографией. Последней его «заразили» ученики Фаворского И. Шпинель, М. Аксельрод и Г. Туганов, приезжавшие в 1925–1926 годах в Саратов на летнюю практику. М. И. Поляков, тогда еще студент саратовского художественного техникума, в 1973 году рассказывал автору этих строк, с каким жадным интересом молодые местные художники знакомились с особенностями гравюры на дереве, делали первые пробы в этой технике. Среди них был и Скворцов. Гравюра на дереве использовалась им не часто, преимущественно для оформления книг и экслибрисов. Работ его в ксилографии известно немного. Некоторые из экслибрисов воспроизведены в книге «Саратовский книжный знак» (1928), составленной А. Креповым, Л. Рабиновичем, С. Соколовым, и в работе С.А. Сильванского «Книжные знаки Александра Скворцова» (1929). Обложка, заставка и концовка этой книги, пригласительный билет на вторую выставку книжного знака в Радищевском музее, небольшие «Интерьер», «Пейзаж», «Сборщица картофеля», тоже весьма напоминающие элементы книжного убранства, – вот то немногое, что сохранилось из скворцовских ксилографий 1920-1930-х годов. Все они выполнены па достаточно высоком профессиональном уровне и свидетельствуют о хорошем усвоении плодотворнейших завоеваний Фаворского и мастеров его круга. Вполне справедливо замечание К.В. Безменовой: «Работы А.В. Скворцова в области ксилографии говорят о том, что этот художник тонко чувствует специфику гравюры. Его поиски многоплановых решений пространства, взаимоотношений черного пятна с белой плоскостью листа и обыгрывание возможностей белого штриха в черно-белой гравюре совпадают с художественными проблемами, вставшими перед граверами по дереву 20-х годов» [8].
По свидетельству Н. С. Степановой, жены художника, его увлечение печатной графикой началось с линолеума. Самые ранние пробы в этом материале были взыскательным автором уничтожены. В сохранившихся линогравюрах второй половины 1920-х годов совсем нет робости начинающего.
В ранний период Скворцов создал в этой технике серию городских пейзажей, а также несколько интересных портретов, и обе эти группы работ существенно разнятся между собой как по характеру образного решения, так и стилистически.
В портретах явственно ощутимо стремление к повышенной экспрессии. Взятые очень крупно, во всю плоскость листа, лаконично и смело трактованные, они говорят о стремлении к монументализации. Острота характеристики сочетается здесь с глубоким образным обобщением.
«Автопортрет» 1926 года показывает, насколько уверенно осваиваются Скворцовым возможности материала и инструмента. Резкий, напряженный контраст больших плоскостей черного и белого, нервная, прерывистая штриховка драматизируют образ, сообщают облику художника решимость и волевой напор.
Но в листе этом куда меньше той доверительной искренности, которая была присуща литографскому автопортрету. Главное здесь – не откровенный и трезвый рассказ о себе, а некая тематическая заданность: художник и нэповский быт, суровая отрешенность от влекущих соблазнов жизни. Отсюда невольная перегруженность композиции сторонними деталями, «говорящими» подробностями: горящая лампа, бутылка, дамский сапог, – которые, по всей видимости, представлялись необходимыми для наглядного выявления подтекстового замысла.
Образ художника в линогравюрном «Автопортрете» явно романтизирован и весьма далек от сугубо портретного решения. Заданное представление о долге перед искусством, о трудной и высокой миссии мастера-творца в значительной мере заслонило стремление к конкретности индивидуальной характеристики, к более глубокому выявлению персональных психологических особенностей.
В том же направлении работал Скворцов, создавая превосходную гравюру «Голова девушки (Комсомолка)». С целью обострения характеристики он резко укрупняет масштаб, нарочито форсирует контур. Мастер явно стремится к концентрации художественной идеи и к волевой активности формы. Содержательный смысл портрета рожден стремительным обновлением жизни, становлением нового человека. Всем обликом своим «Девушка» принадлежит первому послеоктябрьскому поколению, только еще начинающему свой путь. И хотя в портрете этом степень обобщения образа очень велика, он не утрачивает психологической определенности. Именно непривычное сочетание духовно-эмоционального напряжения и сосредоточенного лиризма делает решение Скворцова таким убедительным.
Интонация пейзажных линогравюр Скворцова совершенно другая – им присуще настроение спокойно-умиротворенное, задумчиво-созерцательное. Удивительна камерность даже очень больших листов. Художник стремился в них к достоверности графического рассказа, к особой, легко угадываемой «портретности» пейзажно-архитектурного мотива. Отсюда укрупнение масштаба изображаемых зданий, тщательная проработка предметной формы. Скворцов чуток к будничному ритму городской жизни. Больше всего привлекают его старые, давно обжитые кварталы с их исконным размеренным уютом. Порою внимание художника останавливает мягкая округлость массивных, спокойно-величавых форм каменных соборов, например, в листе «Портал старинной церкви на Покровской улице» – цветной линогравюре 1925 года из серии «Старый Саратов». Элементы архитектуры переданы довольно точно, но без педантичной засушенности и мелочной отделки. Следует сказать и об исключительной скромности цветового решения этого по сути монохромного листа, только слегка «озвученного» деликатным введением серовато-зеленого очень изысканного и благородного тона. Все это позволило мастеру передать существенные особенности мотива и пейзажного состояния с большой лирической точностью. Интимный строй «Портала» характерен для всех городских пейзажей. Они объединены не только внешними приметами серии или цикла – одинаковый размер и формат листа, – но также и общностью замысла, единым стилистическим принципом, сходной манерой исполнения. От неназойливого подцвечивания оттиски приобретают почти акварельную легкость. В них не очень-то ощутима собственно «граверность»: сам материал еще не становится активным средством образной выразительности, как в портретных линогравюрах. Поиски в области техники здесь менее активны.
В портретах острее ощущение тревожного и героического времени. Сама их плакатная природа – наглядное тому подтверждение. Они теснее связаны со смелыми исканиями и высокими достижениями современного искусства, зависимее от них. «Бурная эпоха революции обрела в графике именно тот резкий и четкий, лаконический и динамический язык, который был ей нужен [...]» [9]
В своих портретах саратовский гравер уверенно осваивает этот напряженно-экспрессивный графический язык, ставший тогда достоянием многих молодых мастеров. В пейзажах же – пусть еще очень робко – Скворцов нащупывает свой особенный путь. Технически пока менее совершенные, нежели портреты, они связаны гораздо глубже с самыми основами его художественного мышления. К серии «Старый Саратов» можно отнести и ряд городских пейзажей 1926–1929 годов, выполненных в технике офорта или акватинты.
В 1920-е годы диапазон гравюрных техник, к которым охотно и часто обращается Скворцов, еще достаточно широк. Он пробует силы буквально во всех основных разновидностях печатной графики, терпеливо постигая выразительные возможности каждой из них. К концу десятилетия среди лучших его листов количественно начинает заметно преобладать офорт.
Самое раннее обращение к нему – «Мой первый офорт» – датируется 1924 годом. На квартире саратовского художника Б. И. Ковригина Скворцов случайно увидел несколько чисто ремесленных офортов и совершенно неожиданно для себя почувствовал богатейшие возможности этой техники. Он буквально «заболевает» офортом. Преодолевая огромные трудности, обзаводится станком и необходимыми материалами. Выписывает из Франции комплект инструментов. Профессиональные навыки Скворцов приобретает самостоятельно, пользуясь лишь «Руководством по технике офорта» М. Ла– лана, которое нашел в библиотеке Радищевского музея. Страницу за страницей этого пособия переводит ему жена с французского языка, и Александр Васильевич изо дня в день настойчиво совершенствует свои навыки, глубже постигает природу самого материала. В конце 1920-х годов он вполне владеет техническими тонкостями данного вида гравюры.
На рубеже 1924–1925 годов в Саратове, в залах художественного музея экспонировалась Первая всеобщая германская выставка в СССР, на которой Скворцов получил возможность ближе познакомиться с офортами Кетэ Кольвиц. Увлечение ее искусством активизировало собственную работу но творческому освоению гравюры на металле. В эти же годы он пристально изучает офорты Фрэнка Бренгвина. «Я очень увлекаюсь Бренгвиным», – пишет художник В. Я. Адарюкову летом 1928 года и настойчиво пытается выяснить мнение своего адресата о произведениях прославленного мастера [10]. Скворцов высоко ценил исследования этого искусствоведа по истории гравюры. В годы жадного интереса к печатной графике Адарюков упорно прокламировал особенные возможности офорта как одной из самых сложных и интересных техник. Его статья «Офорт в России» (1923) оказала едва ли не решающее влияние на окончательный выбор художника.
Скворцов внимателен к офортам Рембрандта и малых голландцев, он собирает листы Кравченко, Фалилеева, Кругликовой, Нивинского, Доброва. Но в собственном творчестве саратовский гравер не следовал ни одному из этих мастеров. Существенного влияния любого из них не обнаружить в образной ткани тогдашних скворцовских листов. Воздействие заключалось в ином: эти художники высоко подняли самый престиж офорта, раскрыли богатство его эмоционально-экспрессивных возможностей. Скворцов-офортист развивался обособленно, но развивался он в пределах их «силового поля», ориентируясь на заданный уровень мастерства, на органичность и чистоту гравюрного языка, на культуру ремесла, выработанную прославленными граверами.
Скворцовская «завороженность» офортом не случайна. Выбор был осознанным, хорошо учитывающим особенности своего творческого видения. Живописная трактовка мотива в гравюре больше сродни ему, нежели линейно-пластическая. И особое пристрастие Скворцова к гравюре на металле вполне объяснимо: любая ее разновидность – собственно офорт, близкая ему по своему художественному эффекту сухая игла, мягкий лак, акватинта и меццо-тинто – все они позволяют передавать тональное богатство природы с большой достоверностью.
Скворцов окончательно отдал предпочтение офорту в годы, когда ксилография надолго получила первенствующее значение в советской графике. И в офорте он обрел себя.
В 1920-е годы художник осваивает различные жанры: интерьер, натюрморт, пейзаж и портрет. Первоначально овладеть спецификой гравюры в наибольшей мере помогает ему натюрморт. Пристально, словно бы в упор, разглядывает гравер немногие предметы, стараясь возможно полнее выявить материальные качества и свойства, добиваясь впечатления подчеркнутой объемности, весомости, конкретной фактурности их поверхностей. Как правило, это не острый «диалог» различных вещей, а скорее неторопливый обстоятельный рассказ о каждой из них. Все сводится к довольно простой задаче построения формы в новой технике, к совершенно еще робким попыткам, преодолевая сопротивление плохо знакомого материала, воссоздать каждую вещь во всей осязаемости. В самых ранних натюрмортах Скворцов ученически скован. Умея выявить пластический смысл изображаемых предметов, сделать их ощутимо вещественными, он не улавливает пока их скрытого интимного контакта, органической спаянности друг с другом. Только в лучшем из них – «Натюрморте с собакой» – Скворцов достигает композиционной остроты и динамики, убеждающе передает также и взаимоотношения предметов, их тонкую прихотливую игру.
Потребностью преодолеть мертвенную отдельность существования этих вещей, мотивировать их связь конкретностью единой жизненной среды рождены и скворцовские интерьеры. По сути это развернутые многопредметные натюрморты, только вмонтированные в интерьер.
Таков, к примеру, «Интерьер с фигурой» (акватинта, 1926), таков и линогравюрный интерьер с самоваром, стаканом, книгой, лупой и портретом на стене. Они натюрмортны по самой своей сущности. Собственно интерьерное начало ослаблено в них и слишком явно подчинено попыткам найти естественное взаимодействие различных мелочей повседневного домашнего обихода.
В пределах 1920-х годов остались основные опыты Скворцова в сфере типажных набросков и жанрово-бытовых сцен. Таковы совсем еще неумелый «Столяр», раскованный, эскизный «Преферанс»; острый по композиции, несколько утрированный, но выразительный и даже по-своему монументальный, крохотный лист «Прачка», большая многофигурная композиция «На улице»; ряд занимательных сцен из серии «Базар».
Жанровая многогранность раннего Скворцова, казалось, никак не предвещает чистого пейзажиста, каким знали его зрители последующих десятилетий. В 1920-е годы пейзаж постепенно вытесняет другие жанры и только к концу десятилетия занимает центральное место в творчестве. Потенции работать в других жанрах были у Скворцова достаточно велики: и в натюрморте, и в портрете, и в интерьере, и в бытовых сценах он высказался свежо и талантливо, по все же быстро оставил их все, не предполагая возможности дальнейшего совершенствования па этих путях.
В ранних листах Скворцов не избежал увлечения повышенной экспрессией, свойственного советскому искусству той поры, но и тогда в собственном творчестве экспрессия заметно умерялась интонацией лирико-поэтической созерцательности, видимо, более органичной для его мироощущения. Это бросается в глаза даже в наиболее динамичных и напряженных по своему звучанию скворцовских пейзажах тех лет – «Мельница», «Воз на мосту», «Пейзаж с поездом», «Малая Поливановка. Гора», «Дворик па Первомайской улице». Борьба за новые формы художественной выразительности, весьма интенсивная в атмосфере 1920-х годов, задела его лишь косвенно и не очень-то глубоко. Некоторая романтическая отвлеченность самых ранних пейзажей и плакатная пафосность портретов были художником сравнительно быстро преодолены. Экспрессивный изобразительный строй обложки книги Л. Решетова «Дело мистера Луиса» (1931) скорее исключение, а не правило. И предопределен он характером текста, а вовсе не направленностью стилистических исканий художника. К концу десятилетия в его творчестве обозначился поворот к большей интимности образа, к поэтической достоверности передачи обыденного мотива. Как явная полемика с прямолинейной декларативностью линогравюрного автопортрета воспринимается большой пейзажно-жанровый лист «Вечер» (офорт, акватинта), датированный 1926 годом.
Этот год недолгого ухаживания и счастливой женитьбы художника на Н. С. Степановой, тоже работавшей в статистическом управлении, где Скворцов был принужден служить по первой, довольно прозаической своей специальности. События личной биографии получили в гравюре достаточно трезвое, лукаво-ироническое осмысление.
Убеждающе воссоздан теплый, томительно-тревожный вечер. На скамейке у каменной церковной ограды с массивными воротами – обнимающаяся парочка. Над нею кошачий дуэт. Мотиву, казалось бы, сугубо возвышенному, придана откровенно насмешливая окраска.
Элегическое очарование старой архитектуры, уютная идилличность весеннего пейзажа взрываются нарочитым комизмом жанровой ситуации. Свободное развертывание лирической темы пресекается пародийной остраненностью юмористического виденья.
Этого же рода «несогласованности» присущи и группе небольших пейзажных гравюр из альбома «Волга», подготовленного Скворцовым в 1929 году. Только это «несогласованности» внутри серии, а не внутри каждого листа. Альбом создавался на основе зарисовок, сделанных художником во время пароходной поездки в родные края летом 1926 года [11].
Образно-стилевое единство серии здесь весьма относительно. В одних листах («Оползень») мастер добивается обостренной интерпретации мотива, в других («Пейзаж с баржей») тяготеет к сдержанной лирической экспрессии; в одних – настрой мрачновато-сумрачный, тревожно-романтический («Вечер на Волге. Астрахань»), в других нарочито ироничный, сниженно-бытовой («Пастушка»); в одних – широкий охват пространства («Дали»), в других – взгляд замыкается на малом и ближнем, почти протокольно фиксируя лишь чувственно-непосредственную данность как бы случайно увиденных фрагментов натуры («Лодки и сваи», «Мостки», «Сходни», «У причала»); одни листы восходят к самым ранним напряженно-романтическим пейзажам, другие – словно предвещают скворцовские «наброски с натуры» поздней поры. В единый альбом собраны произведения, несхожие по своему внутреннему строю, но близкие по техническому решению. В офорте художник мыслит тонально-пластически. Очень цельно воспринимая мотив, он строит лист на больших обобщениях формы, достигая единства и почти живописной слитности изображенного.
Следующим летом Скворцов побывал в Крыму. 1929 годом датирован офорт «Севастополь». Лист вяловато-описательный, дробный по композиции, имеет характер лишь первоначального, очень беглого знакомства с мотивом. Гравюры, посвященные Бахчисараю и окрестностям, кажутся несравненно более совершенными. В них нет размагниченности и многоречивости. В каждом листе дан только некий синтезирующий образ Бахчисарая, достаточно обобщенное и концентрированное представление о характернейших чертах крымского пейзажа.
Скворцова любили называть певцом Волги. Великая река, действительно, главная тема художника. Он охотно работал и над пейзажами Дона, Хопра. Многократно возвращался к мотивам Бахчисарая. Бахчисарайской сюите принадлежит одно из самых изысканных его созданий – «Три дерева». Скворцов быстро вживался в незнакомый пейзаж, хорошо чувствовал существенное, определяющее в нем. Географические рамки определялись жизненными обстоятельствами: он изображал только виденное, а по воображению работать не любил и не мог. И вполне понятно, что волжские пейзажи абсолютно доминируют в наследии мастера. Он хорошо знал природу края и топко передавал ее особенные приметы.
В конце 1920-х годов появляются в творчестве Скворцова пейзажи, сосредоточенной углубленностью подхода и поэтической конкретностью видения уже предвещающие его искания зрелой поры. Художественную полноценность этих работ в начале 1927 года отмечала местная пресса [12].
Значительное их число к концу десятилетия поступило в Радищевский музей. Листы Скворцова экспонировались на выставках в Феодосии и в Казани, «бывшей в 1920-х годах, вероятно, самым активным на периферии центром развития и пропаганды искусства графики» [13]. Некоторые из них попали в собрание Центрального музея Татарии [14].
Однако наибольший успех выпал не пейзажам или портретам, а экслибрисам Скворцова. На рубеже 1920–1930-х годов они трижды были показаны на выставке интернационального общества экслибристов в Лос-Анжелесе. Привязанность к искусству книжного знака художник сохранял и в последующие годы. Среди лучших ранних экслибрисов, выполненных в технике ксилографии, – книжные знаки П.Д. Эттингера, А.А. Крекова, B.Я. Адарюкова, С.А. Сильванского, Я.И. Рабиновича, Н.С. Иловайской, В.А. Гофмана. Гораздо реже Скворцов прибегал к линогравюре: книжные знаки Макса Шерма, Н. Степановой; порою – к офорту.
Экслибрисам Скворцова было посвящено специальное исследование C.А. Сильванского, изданное крохотным тиражом и сразу ставшее библиографической редкостью. Автор его, отмечая влияние Шиллинговского, Маторина, Фаворского и особенно Кравченко в ранних экслибрисах саратовского гравера, тем не менее ставит их достаточно высоко.
Экслибрисы интересны строгим соответствием основной цели – дать яркое образное представление о характере библиофильских увлечений и привязанностей владельца книжного знака. Это микроинформация о библиотеке, сконцентрированная на крохотном пространстве экслибриса, живущего в обособленном мире отдельного тома. Не случайно книжные знаки Скворцова сразу же привлекли внимание собирателей и исследователей.
Как талантливый график-станковист и интересный мастер книжного декора воспринимался Скворцов на рубеже 1920–1930-х годов А.А. Сидоровым и П.Е. Корниловым. Его гравюры необычайно понравились Е.С. Кругликовой; именно у Кругликовой впервые увидела листы Скворцова М.З. Холодовская, которая обратилась к художнику с просьбой прислать некоторые из них для рассмотрения закупочной комиссией Государственного музея изобразительных искусств [15]. Но, пожалуй, самым первым заметил и по-настоящему оценил молодого гравера П.Д. Эттингер.
Этого замечательной души человека художники не случайно прозвали «графической бабушкой». Неизменно доброжелательный ко всякому истинному дарованию, нелицеприятный и взыскательно-строгий, он терпеливо и бережно пестовал молодые таланты. Многие советские графики ему первому несли новые работы, доверяя непредвзятой честности его оценок. Эттингер самоотверженно опекал начинающих граверов, охотно собирал лучшие их листы, внимательно следил за творческим развитием каждого, остерегая от облегченных и компромиссных решений.
Для Скворцова авторитет Эттингера был непререкаемым. Искусствовед колоссальной эрудиции и, в частности, превосходный знаток всевозможных графических техник, он во многом облегчил и ускорил становление саратовского мастера. Бывая в Москве, Скворцов навещал критика, знакомил с последними работами, советовался с ним по житейским и творческим вопросам. Он подолгу засиживался в его комнате, завешенной произведениями искусства и заваленной грудами альбомов, каталогов и книг, которую так впечатляюще воссоздал М.И. Поляков в шуточной юбилейной ксилографии «Вот пещера Эттингера». Привязанность Скворцова к Эттингеру была столь велика, что даже десятилетия спустя смерть этого очень старого человека казалась ему чем-то нелепо неожиданным и трагичным: «Трудно подумать, – писал он, – что нет теперь Павла Давыдовича. Нет его комнаты на Басманной с гравюрами, книгами, рисунками, и нет его самого, приветливого и готового помочь словом и делом. Правда, возраст его был такой, что нужно было ожидать его ухода из жизни, но не хотелось об этом думать. Все казалось, что так он и будет жить без конца и без края, всем интересоваться, обо всех вспоминать и думать» [16].
Для Скворцова особая важность внешних контактов предопределялась еще и тем, что в Саратове ему не с кем было советоваться по специальным вопросам гравюрного дела. Да и отношения со многими местными художниками сложились не лучшим образом. Высокая оценка его творчества авторитетными специалистами Ленинграда и Москвы не находила в Саратове соответствующего отклика. Скорее напротив. Позднейшие оптимистические уверения, что «с 1924 года и по сегодняшний день Скворцов – постоянный и непременный участник выставок в Саратове» [17], не имеют под собой достаточно прочного основания. Факты свидетельствуют об ином: по меньшей мере два десятилетия, с 1927 по 1947 год, он не выступал ни на одной из саратовских выставок. А ведь это – годы заметной творческой активности художника, годы зрелости. С большим опозданием, лишь в октябре 1945 года он был принят в члены Союза художников СССР. Не легче обстояли дела с условиями для творческой работы. По окончании техникума он служит около трех лет бухгалтером и статистиком в крайплане, затем около года преподает в Татарском педтехникуме, несколько лет получает заказы на оформление книг от ряда издательств Москвы и города Энгельса. В годы войны служит художником и ретушером в газете. 1946/47 учебный год он – ассистент кафедры архитектуры Саратовского автодорожного института. Затем до февраля 1953 года работает преподавателем в местном художественном училище. Только на пороге шестидесятилетия Скворцов сумел целиком отдаться творческой работе.
Жизненные обстоятельства, сложившиеся неблагоприятно, выработали его характер, внешне уступчивый и мягкий, но при этом необычайно целеустремленный и упорный. С годами пришло равнодушие к внешнему успеху и резко возросла взыскательность к своему труду, тревожащая озабоченность качеством своих созданий.
Скворцов отличался завидной работоспособностью. Всегда остро ощущал нехватку времени, потребность в уединении и сосредоточенности. Порой приходилось затрачивать немало усилий, чтобы хотя бы урывками заниматься творчеством.
В молодости, сетуя на обременительность бухгалтерской службы, он стремился к преподавательской деятельности, которая «дает несколько свободных дней в неделю и лето» [18].
Но вскоре и преподавание становится для него обременительным. Не радуют и заказы издательств: Скворцов мечтает о непрерывности творческого труда, о решении сложнейших технических и художественных задач, требующих долгой сосредоточенности и абсолютной поглощенности внимания.
«Пробовал поработать в цветной гравюре на линолеуме, но опять оторвался из-за службы, и эта работа остановилась», – сообщает он московскому коллекционеру Л.И. Рабиновичу, и затем добавляет с нескрываемой горечью: «Только тогда можно что-нибудь сделать, когда работа идет систематически, без перерывов. А работой от случая к случаю ничего не добьешься – это топтание на месте без результатов, без достижений. Один год я поработал систематически в Москве, и это мне многое дало [...] Работа над книгой дает, правда, некоторое удовлетворение, но недостаточно хорошая печать расхолаживает. Часто хорошо сделанная обложка (и по композиции, и по цвету) пропадает в печати» [19].
И именно в эти годы он с терпеливым упорством торил собственный путь. К концу 1920-х годов вполне отчетливо выступили те особенности скворцовского дарования, которые в последующем творчестве будут только углубляться, оставаясь неизменными в своей первооснове. Художник окончательно обретает свой излюбленный жанр и стиль. Отныне и навсегда он – прежде всего мастер камерного лирического пейзажа.
Для Скворцова зрелой поры характерны объективность подхода, верность предметной правде мотива. Речь, понятно, не о пассивной описательности в передаче натуры, а об активном поэтическом ее постижении. Реалистическая конкретность видения счастливо сочеталась у него с высоким даром непосредственного лиризма. Но скворцовский лиризм – лиризм без интенсивности, без форсированной подачи своих поэтических чувствований. Безыскусственность, ненатужность, покоряющая естественность интонаций – отличительные свойства его таланта.
Скворцов был неутомимым экспериментатором. Но чаще всего это поиски не новых форм художественного видения, а технических средств более полнокровного воплощения излюбленных тем и образов. Добиваясь зрительного единства и цельности впечатления, он стремится в своих пейзажах («На опушке», «По дороге в Покровск» и других) к конкретности освещения как естественной предпосылке правдивой передачи состояния мотива. Не случайно на рубеже 1920–1930-х годов творческое внимание художника почти целиком сосредоточилось на офорте, обладающем немалыми возможностями, чтобы достоверно воссоздать живую реальность световоздушной среды. Среди работ, награвированных им тогда, отточенным мастерством исполнения и строгой продуманностью композиционного строя выделяются пейзажи «Домики в Затоне» и «Волга зимой. Оползень». Рядом с обаятельной прозаичностью «Домиков в Затоне» второй пейзаж кажется слегка романтизированным. Мощный столбообразный холм, вздыбленный над огромной протяженностью заснеженной равнины (такие осыпающиеся и выветриваемые оползневые остатки меловых гор волжане называют столбичами). А вдалеке разбросаны одинокие деревца, поросшие ивняком ложбины, дощатые домики с низкими изгородями, плоты и барки на еще не замерзшей темной воде. В крохотном поле листа открывается очень активное, поистине «затягивающее» пространство.
Но и здесь, несмотря на романтизацию, не столько взволнованное переживание мотива, сколько неторопливая обстоятельность подробного рассказа о нем. Запечатлено не мгновение, а протяженность, эффект стабильный, регулярно повторяемый.
Оба листа обнаруживают зрелый профессионализм автора, свободное владение ремеслом. Но они лишены подлинной лирической непосредственности, поэтической взволнованности и как бы изначально ориентированы на решение композиционной и сугубо технической задачи. Не случайно, посылая «Волгу зимой. Оползень» на авторитетный суд Доброва, художник счел необходимым прямо на листе специально пометить: «Все сделано травлением» [20]. Ему важно подчеркнуть, что теперь он пользуется только «чистой» техникой, не прибегая к дополнительной механической обработке доски. Именно в эти годы очень последовательно, с терпеливым упорством добивается он овладения материалом. Результаты тогдашних технических исканий казались самому мастеру весьма скромными. Раздражала его в этих листах и эмоциональная скованность, которую он не сумел пока преодолеть. И все же, сколь бы сурово ни оценивал их впоследствии Скворцов, они сыграли существенную роль в формировании творческого метода, в выработке офортной техники. В них имелось, безусловно, и то, что сразу отличает подлинного художника от самого высококвалифицированного ремесленника, – не фетишизация материала, но использование его потенций для постижения образного смысла пейзажа. Ведь именно умение «мыслить в материале» позволяет сделать эмоционально значимым буквально каждый штрих.
И уже в 1930-е годы Скворцов создает один из наиболее раскованно-поэтичных офортов «Жаркий день». Ощущение палящего томительного зноя рождено здесь разнообразием штриховки, то сильно, до черноты, сгущающейся в тенях, то разреженной при передаче легкого трепета листвы, прихотливой игры световых бликов на гладком песке, заборе, дощатом сарайчике, корпусе ремонтируемой лодки, при воссоздании тихой волжской воды, чуть тронутой у самого берега легкой рябью.
Едва заметными штришками намечены скользящий по реке катерок и деревья дальнего берега, почти пропадающие в легкой дымке у горизонта. Серебристое сияние всего листа словно «материализует» солнечный свет, убеждающе передает дрожание сухого, прозрачного воздуха, смягчает очертания всех предметов, растворяемых в мглистом июльском мареве.
В «Жарком дне» находим уже ту полноту натурной убедительности, которая будет свойственна почти всем последующим его вещам. Точность наблюдения соединилась здесь со свежей непосредственностью восприятия мотива.
В многочисленных скворцовских офортах этого времени нет больше особого пристрастия к архитектурному пейзажу, характерному для середины 1920-х годов. Его все больше привлекает «чистая» природа с ее вечной изменчивостью, с богатством зыбких, трудно фиксируемых состояний. Постановка новых задач требовала новых технических навыков. А это давалось не сразу. Каждому шагу предшествовала долгая внутренняя работа, многочисленные пробы в материале, поиски, эксперименты.
Замедленное свое становление как офортиста, растянувшееся более чем на десятилетие, Скворцов переживал болезненно. Всегда взыскательный к своим опытам, ставящий профессиональную добротность необычайно высоко, он охотно пошел на сужение жанрового диапазона, сознательно стремился к ограничениям в выборе техники, размера листов.
«Я все еще нахожусь в периоде исканий как техники, так и всего остального. Поэтому не решаюсь брать большие доски и работаю, как вы сами видите, на небольших кусочках цинка», – пишет он Доброву. И еще: «Сейчас я стараюсь работать исключительно в офорте. Все остальные техники, которые я использую, не дают того, что хочется получить, и, кроме того, очень капризны в печати. Особенно этим отличается сухая игла» [21].
Жалобы на капризность сухой иглы не случайны. В середине 1930-х годов Скворцов пытается овладеть спецификой этой техники. Сухая игла с ее сочными бархатистыми штрихами способствует большему приближению к натуре, что вполне отвечало характеру творческого мышления художника. Как и в других техниках, он начинает с натюрмортов. Вещи повседневного обихода – бутылка, ложка, очки, шкатулка, фарфоровые и мраморные безделушки – все они обретают неожиданную предметность, становятся фактурно ощутимыми. Мягко очерчено округлое тулово мраморной свинки, густой диагональной штриховкой выявлена текстура полированного дерева шкатулки.
Композиционно еще очень скованные, натюрморты эти имеют характер скорее только штудийный. Глубокого образного «овеществления» изображенных предметов все же не получилось. Разочарованный художник прервал опыты и на некоторое время целиком сосредоточился на офорте. Вряд ли мог предположить он тогда, что в ближайшие годы наибольших удач достигнет именно в технике сухой иглы.
Скворцов вновь обращается к ней после персональной выставки-просмотра в офортной студии имени И.И. Нивинского 10 марта 1937 года. Для саратовского гравера, лишь изредка бывающего в Москве, студия Нивинского не школа, а своего рода творческий центр, дающий импульсы к дальнейшим поискам. Он воспринимал свою выставку как строгий экзамен, готовился к ней с большой тщательностью, очень волновался, отбирая лучшие листы для экспозиции. Для него самого это был отчет о работе за десятилетие.
Выставка Скворцова была принята очень тепло, студийцы высказали ему немало ценных замечаний и советов. Они настойчиво подталкивали его активнее пользоваться техникой сухой иглы. Репродукционную утилитарность ее применения в портретах великих писателей пли композиторов, выполняемых Скворцовым по заказам различных издательств и московского художественного салона, предстояло заменить творчески-созидательным использованием.
Уже в 1938 году художник создал интересный цикл пейзажей «Разлив Волги», в лучших листах которого конкретно-эмоциональное восприятие мотива приближено к непосредственности быстрого первичного отклика. Для большинства листов характерны чисто этюдный подход, стремление во всей свежести передать свое переживание живой, буквально на глазах меняющейся натуры.
Теперь Скворцов обращается к сухой игле столь же часто, что и к офорту. Реже использует мягкий лак и акватинту, еще реже меццо-тинто.
Порой он прибегает к сложнейшему сочетанию нескольких техник, например, «Дождь» 1944 года (сухая игла, мягкий лак, акватинта). Так бывает нечасто, и лишь в тех случаях, когда необходимо воссоздать очень уж сложное, прихотливо-изменчивое состояние природы. Техника у Скворцова всегда органична. Хорошо чувствуя специфику и возможности каждого материала, он шел от конкретной эмоционально-образной задачи.
Несомненная удача художника в сухой игле – портрет сына 1939 года. Он отличается серьезностью подхода к модели, глубиной постижения, остротой характеристики, строгостью линейного ритма, напряженным звучанием насыщенных черных штрихов. В портрете выявлена незаурядность облика и характера, ранняя взрослость задумчивого подростка. Образу присуща и та элегическая настроенность, которая стала преобладающей в пейзажной лирике Скворцова.
К середине 1930-х годов, когда активная работа в офорте несколько затормозилась, художник возобновил опыты в линогравюре, но тут же оставил их ради сухой иглы. В начале 1939 года он снова вернулся к линолеуму, помышляя на сей раз о цветной печати. Однако, вынужденный срочно переключиться на исполнение издательских заказов, опять прервал работу. Заметно активизировалась она лишь в 1940 году, когда Скворцов стал руководителем художественного кружка при Саратовском Дворце пионеров. Необходимость продемонстрировать возможности самой доступной для его воспитанников гравюрной техники словно подстегнула мастера, и в короткий срок он создал серию цветных линогравюр: «Яхты», «К рассвету», «Облака», «Завечерело», «Закат», «Разлив Волги».
В сравнении с цветными линогравюрами 1920-х годов они отличаются куда меньшим размером и куда большей звучностью цвета. Да и весь лад этих работ совершенно иной: в них ощутимее тяга к декоративности. Как и во всех прочих техниках, здесь гравер хорошо воспроизводит эффекты пейзажного состояния, но листы эти не кажутся сугубо натурными, в них гораздо больше сочиненного, чем обычно бывает в скворцовских вещах. Сказывается и увлечение японской цветной ксилографией. Особенно это заметно в листах «К рассвету», «Яхты», «Закат», построенных на тонкой градации сгармонированных цветовых пятен. Характерен и выбор мотива – время предутреннее или сумеречное – наименее определенного в цвете и наиболее богатого игрой его оттенков и переливов.
Заботясь о богатстве красочной гаммы, Скворцов увеличивает число досок до четырех, а в иных листах даже до шести. Это позволяет воссоздать максимум возможных светоцветовых эффектов. Но художник не сумел избежать при этом некоторой искусственности. Тяга к эмоциональному обогащению образа привела к форсированной звучности красок. Техникой цветной многодосочной линогравюры он овладел сравнительно легко, но соблазн внешней эффектности не был в этой серии окончательно преодолен. Поэтому она и воспринимается чужеродной основному руслу его творчества.
Активная деятельность Скворцова была прервана войной. С сентября 1941 года и до конца Великой Отечественной войны он работает художником саратовской областной газеты «Коммунист». Порою буквально сутками не выходит из редакции, выполняя срочные задания в сложных условиях. Жизнь всего народа стала тогда подвигом, и требовались неимоверные усилия, чтобы сохранить способность к активному творчеству. Но без этого Скворцов не мыслил существования. Газетная текучка позволяла творить лишь изредка, только урывками. Количество новых гравюр сразу же резко падает, но высокого уровня, достигнутого в предвоенные годы, Скворцов не потерял. Видимо, в декабре 1941 года создан острый пейзажно-жанровый лист «Поземка»: женщина-беженка с детьми тащит груженые санки по улицам города. В 1942 году он награвировал «Ночи войны». Застывшие баржи на черной воде, небо, расчерченное лучами прожекторов... Тревога и суровая напряженность тех памятных лет переданы немногословно, но с убеждающей конкретностью.
В годы войны саратовский гравер заметно продвинулся в работе с цветом. Его успехи к 1945 году стали очевидны даже ему самому. Всегда очень скромный в оценке своих достижений, он наконец-то решился поведать о них писателю А. С. Яковлеву, с которым сблизился в ту пору: «В последнее время (после Вашего отъезда) я работаю над цветной меццо-тинтой. В поисках цвета я работаю давно, перепробовал много различных техник, но все это не давало мне возможности более полно выразить в цвете те задачи, которые я ставил перед собой. И вот только недавно кое-что мне удалось в этой области, что с моей точки зрения заслуживает серьезного внимания. Правда, работа эта очень трудная и требует много времени и сил, но с этим я не привык считаться» [22].
Скворцов переслал писателю несколько последних произведений, ознакомившись с которыми Яковлев «ощутил обязанность сделать все, чтобы «некий провинциальный художник не думал о себе как о провинциальном». «Прекрасные работы! Отличные работы! Явное развертывание крыльев. Это уже большое искусство» [23].
А вскоре он радостно сообщает художнику о высокой оценке его пейзажей искусствоведом В.М. Лобановым [24].
Эксперименты саратовского гравера с цветом заинтересовали тогда многих. Весной 1947 года на очередной выставке-просмотре работ Скворцова в студии Нивинского разговор как раз и шел о возможностях цветной печати. Успех выставки окрылил художника, вдохновил на новые поиски.
Но какие же, собственно, задачи ставил теперь Скворцов, вновь обращаясь к цветной печати? На этот вопрос позволяет ответить последовательность его пути.
Надеясь использовать цвет как дополнительное средство повышения эмоциональности, Скворцов, пусть и не очень-то активно, прибегает к нему в 1920-е годы. Но основную экспрессивную нагрузку в городских пейзажах тех лет несет, конечно, не цвет.
Цветные линогравюры 1940 года художник ставил невысоко. Ему казалось, что сложность и богатство цветовой гармонии природы переданы в них упрощенно, и до конца своих дней Скворцов сомневался, можно ли этого вообще избежать в линогравюре. Сторонясь всякой эффектности, он стыдился несколько внешней виртуозности этих листов.
В цветной гравюре на металле середины 1940-х годов большая приближенность к натуре. Решительно меняется отношение к возможностям использования цвета. Скворцов стремится теперь воссоздать естественные краски волжского пейзажа без внешних эффектов и передать его состояние возможно проникновеннее. Цвет не только выявляет материальную природу вещей, но активно способствует внутренней наполненности и цельности образа.
Пейзажи тех лет убеждают прежде всего эмоциональной точностью. В листе «Троицкий взвоз» веришь и этим приглушенным краскам последних дней осени, и «слоистому» небу в клочьях тяжелых сизых туч, и кромке раннего снега на крохотном дебаркадере среди притихшей темной воды, и ржаво-коричневой листве больших деревьев возле старинного дома у крутого спуска к реке. Гнетущая сумрачность унылого ноябрьского дня с удивительной естественностью перевоплощена художником в щемяще-грустную мелодию поздней осени. Он обнаруживает здесь ту чуткость восприятия, которая позволяет ему сберечь самое сокровенное, не теряя точности в передаче натуры.
Жизненный путь Скворцова рубежа 1940–1950-х годов лишен каких-либо внешних событий. Событиями становились новые листы. В его искусстве это время неуклонного уверенного подъема. Он обрел наконец-то совершенство ремесла, полную свободу владения материалом. Пришло и то глубокое понимание «невероятной сложности живой формы», которое, согласно Фаворскому, свидетельствует о духовной и творческой зрелости мастера [25]. Ему нет больше нужды выискивать «интересные» мотивы. Любой из них становится интересным в процессе постепенного ненавязчивого вживания, упорного постижения характерного и существенного в нем.
По сути всякий натурный мотив воспринимается Скворцовым как готовая композиция. Он интуитивно отбрасывает «лишние» подробности, выявляя соотношения основных форм, добиваясь ритмической слаженности и тонального единства. Сохраняя реалистическую конкретность видения, художник ищет поэтической правды, а не оптического правдоподобия. При всей невыисканности пейзажного сюжета листы его всегда воспринимаются образно-законченными. Таковы «Затопленные деревья» с их столь очевидной непреднамеренностью многократно виденного, примелькавшегося мотива.
«Закончил 2-й цветной офорт (меццо-тинто) с затопленными деревьями в Тяньдзине; это не в Китае, а у нас, на другом берегу Волги, против Энгельса», – пишет Скворцов Яковлеву [26].
В композиционном отношении лист кажется фрагментом. Этим еще более усиливается впечатление совершенно случайного, словно бы сразу и наугад выхваченного куска природы. Кадр срезан. Зеленовато-серые и коричневатые стволы, данные крупным планом, удлиняются вглубь отражением в воде. Горизонт замыкают размытые буро-коричневые пятна берегового леса. Над ним извилистая полоска облачного неба, белым паром повторенная в спокойной темной реке. Два основных взаимопроникающих цветовых слоя – серовато-зеленый и ржаво-коричневый – образуют красивую, тонко сгармонированную гамму.
Колористическое единство строится на сложных отношениях, на едва заметных переливах цвета. В пробных оттисках он четырежды варьирует соотношение красочных пятен, добиваясь желаемого эффекта.
Художник знакомит нас с пейзажем в ритме неспешного размеренного повествования. Такой несколько замедленный ритм, замедленный осознанно и даже нарочито, важен Скворцову. Это как раз тот самый ритм, которым проникнута жизнь данного уголка природы и именно в данную пору.
Воссозданы впечатления устойчивые, глубоко вкоренившиеся, то, что достаточно вызрело и стало своим.
Следует сказать и о целомудренной сдержанности эмоций в скворцовских гравюрах, о «скрытой лирике», о непроявленности активного авторского начала, стушеванности своего «я». Действительно, лирического субъекта вроде бы и нет, а лирическое отношение вполне ощутимо. Оно разлито, растворено в наглядных конкретностях пейзажей. Такой объективированный лиризм, очевидно, в природе его дарования. Глубина переживания, выраженного хотя и опосредованно, от этого ничуть не уменьшается. Пейзаж всегда эмоционален, но в нем нет эмоций, отвлеченных от живой волнующей плоти природы.
В лучших своих гравюрах этого периода – «Лодка с мачтой», «Разлив Волги», «Жаркий полдень», «Волга зимой», «Перед грозой», «Глубокое озеро» – мастер не столько взволнованно исповедуется в горячей любви к природе, сколько терпеливо и ненавязчиво объясняет, что же именно так дорого ему в ней. Индивидуальные приметы местности воссозданы во всей схожести со множеством зримых деталей.
Сохраняя стародавнюю основательность в работе, Скворцов добивается ощутимой материальности реалий. Благодаря разнообразию штриховки, сложнейшим фактурным ухищрениям все обретает у него свои особенные качества: черный бархат летнего ночного неба, искристость смерзшегося чистого снега, жухлость старой сухой травы, влажная тяжесть огромной свинцовой тучи, нависшей над рекой, мерцающая серебристость лунного света, белесовато-серая листва запыленных заволжских деревьев, бревенчатость изб, дощатость сараев воссозданы с убеждающей точностью. Сугубо изобразительное, «воспроизводящее» начало очень важно для него, но оно не вытесняет чувств и переживаний. Разнообразно использует художник возможности гравюрной техники: фактура штриховки постоянно меняется в зависимости от задачи. Он работает штрихами различной плотности и толщины, использует порой густую вязь штрихов, почти переходящую в пятно. Но, конечно же, здесь нет никакого «насилия над материалом», чего всегда остерегался мастер, а скорее попытки обогатить его возможности, значительно расширить сферу применения.
Художник Б.П. Бобров говорил, что офорты Скворцова оставляют впечатление живописных этюдов. По отношению к гравюре комплимент довольно сомнительный, но в нем верно схвачена натурная достоверность скворцовских графических листов, их специфическая живописность. Непосредственность восприятия торжествует в них над повышенной опосредованностью граверной техники. Но никогда в его листах не бывало преобладания описательности над живой эмоцией. В мотиве волнует настроение, а вовсе не бесстрастная регистрация пейзажного состояния.
Стремясь обрести еще более непосредственный контакт с природой, сберечь первоначальное ощущение ее во всей свежести, он создает обширную серию «набросков с натуры».
В непрерывном постижении постоянно меняющейся природы – главная их задача. «Наброски» –это по сути лирический дневник, день за днем фиксирующий наблюдения и переживания художника. Пейзаж всегда дан у него «во времени». Он пристально следит за мимолетными переменами его состояний. Не случайно помечает на иных «набросках» не только год, но также месяц и число их рождения. Чаще всего это природа обжитая: баркасы, парусники, крестьянские лодки с сеном, одинокие рыбаки, развешенные на просушку сети. Поэтическая зоркость художника помогает ему с такой правдивостью передать спокойный, повседневно-обыденный ее ритм.
С годами наблюдательность Скворцова обострилась. Весь предыдущий огромный практический опыт обогатил его большим запасом технических навыков. И именно зрелость графического мышления позволила более активно и творчески использовать натуру. Диалог с ней в «набросках» становится очень кратким. Мастер избегает теперь образа-обобщения, не добивается полной законченности. Его задача – стремительно передать свое ощущение момента, сохранить остроту сиюминутного переживания натуры. Его увлекает мгновенное непосредственно-интуитивное постижение образной сути мотива.
Скворцов становится мастером своеобразного «гравюрного пленэра».
В лесу, на обрывистом высоком берегу, на крохотных пустынных островах или даже в собственной лодке он рисует прямо на офортной доске, словно торопясь запечатлеть на ней действительный облик такой знакомой, привычной и такой бесконечно изменчивой волжской природы.
Быстрый «рисующий» штрих лишь слегка намечает самые обобщенные линии берега, отмели, леса, дороги, лодки или причала. «Мастер использует один прием – тонкую игловую линию. Ею он, еле касаясь доски, очерчивает прибрежные кусты, рисует рыбаков в лодках, скорее давая представление о них, чем точное воспроизведение предмета. Все наброски сделаны в форме зарисовок в путевом альбоме, на маленьких продолговатых досках», – пишет об этой серии К. Безменова [27].«Наброски» – не отклонение, нарушающее единство и цельность художественной системы Скворцова, они превосходно вписываются в нее. Соблюдая достаточную меру графической условности, художник и в них по-прежнему стремится к правдивому воссозданию образа природы. Только в «набросках» это достигнуто не в результате долгого «вживания» в мотив, а путем стремительно-активного его освоения.
Это проявилось и в убыстренном темпе графического повествования, и в самом ритме расположения штрихов, всегда беглых, отрывистых, очень решительных.
В числе лучших натурных набросков – офорты «Залило», «Дон. Меловые горы», «Сазанка», «Зеленый остров», «Шумейка», «Ветлы», «Затон», «Озеро», «Большая лодка», «Рыболов».
Сюжеты «набросков» самые непритязательные, нередко почти повторяющиеся. Но при кажущейся монотонности эти гравюрные этюды отличаются удивительным разнообразием. Разнообразием не мотивов, а состояний.
Заурядность сюжетов свойственна не только наброскам, но и всему творчеству художника. Почернелые избы, ветхие заборы, сараи, залитые водой острова, редкие перелески, старые осокори, рыбачьи лодки, баркасы, суетливая жизнь волжских причалов. Что может быть проще и обыкновеннее? Порою Скворцова корили этой обыкновенностью, требовали обязательного обращения к мотивам индустриальным, призванным осовременить пейзаж. Художник трудно поддавался на уговоры... Он хорошо понимал, что самый склад его дарования, особая созерцательность натуры располагает к иному: к пейзажу камерному, к проникновенности, элегическим интонациям. Спокойно, с глубокой убежденностью отстаивал право и долг настоящего художника следовать своему призванию.
Скворцов не боялся показаться старомодным. Даже в начале своего пути он, казалось, никуда не спешил. Ни к чему не приноравливался и позднее, сохраняя свое творческое лицо на протяжении десятилетий.
Характер его художнической наблюдательности почти не менялся. И в той постепенности, с какой развертывалось лирическое дарование художника, угадываются большая внутренняя сосредоточенность и целеустремленность.
В глазах мастера, не избалованного легким успехом, настоящую цену имели только те произведения, где ощутимы искренняя затронутость темой, глубина поэтического подтекста, высокое мастерство. Неспешность развития лишь оттеняла настойчивость творческого поиска, упорное стремление извлечь наконец-то желанный эффект. Все, кто был близок Скворцову в послевоенные годы, кто неоднократно наблюдал за его работой, вспоминают, что из множества пробных оттисков, весьма разнящихся между собой, художник зачастую выбирал, быть может, и не самый броский, но всегда именно тот, который в наибольшей мере отвечал эмоциональной сути образа. Стремясь к правде постижения, он не увлекался смакованием эффектов материала. Щегольство смолоду претило ему. В обширном наследии Скворцова не найти буквально ни одного листа, где бы он просто демонстрировал лишь техническую виртуозность. Высокого уровня профессионализм и одновременно несуетность, всегдашняя серьезность подхода, подлинный художественный такт остерегали его от подобных «забав». Извлекая все экспрессивные возможности из самой фактуры штриха или подцветки, он подчинял их решению образной задачи.
Порою техника Скворцова исключительно сложна, а этого, словно, не замечаешь. К примеру, «Заглохший пруд». Офорт с акватинтой – тоновое пятно и открытый штрих. Тонкий эффект отраженного в воде неба. Деликатно введен цвет: смягченные переливы разбеленно-розового, сине-голубого и темно-коричневого. Цельность впечатления держится благодаря замечательной выверенности композиции и безупречному чувству тона. Простота здесь обманчива – это естественный результат преодоленной сложности.
Тяга к гармонической уравновешенности в поздних скворцовских пейзажах идет об руку с углублением лирического начала. И далеко не всегда прибегает он в этот период к замкнутости, своеобразной «интерьеризации» пространства («Жаркий полдень», «Заглохший пруд», «Озеро. Заволжье»). Нередко манит его передача распахнутых далей, влекущих просторов огромной реки. Но и тогда Волга нисколько не поражает у него своим величием, а скорее чарует спокойной и ласковой красотой. О типично волжском пейзаже дают хорошее представление «Серебряные дали». Светлое облачное небо, бесконечно расстилающаяся зеленоватая вода, белые кромки дальнего берега. В живописно-тональном решении листа наглядно воссоздано ощущение маревной, тающей дымки, мягких, расплывающихся в серебристом свечении пространственных далей.
Среди множества работ у каждого художника имеются такие, которые прочувствованы особенно глубоко, в которых запечатлелись характернейшие свойства дарования. У Скворцова таким листом может считаться «Тихое утро», работа, отмеченная серебряной медалью на Брюссельской международной выставке 1958 года.
Широкий простор неба, уходящая к горизонту гладь огромной притихшей реки, мягкая тяжесть сонных, чуть стелющихся волн, беспредельный покой нарождающегося погожего утра. Легкие разнонаправленные штрихи скорее только намечают первые лучи восходящего солнца, плавные перекаты воды, рождают ощущение скользящего серебристого света. Своей скромной поэтичностью пейзаж этот очень показателен для художника: и сам выбор мотива, и эмоциональный настрой, и приемы, и техника – все чисто скворцовское. И если говорится о пейзажисте, который «перебрал все переливы тишины», то в самой высокой степени это приложимо к светлому и созерцательному искусству Скворцова.
На рубеже 1950–1960-х годов шли энергичные изменения в советском искусстве. Пусть и не очень-то заметно, но они коснулись и творчества саратовского гравера. Внутренняя уверенность в своей правоте, не оставлявшая его в наиболее трудные годы, и глубокое понимание им собственных возможностей помогли ему вдумчиво и достаточно трезво оценить открывающиеся перспективы. Несмотря на преклонный возраст и участившиеся болезни, Скворцов неустанно работал в эти годы и в результате самозабвенного труда вступил в полосу нового творческого подъема, быть может, наиболее высокого за всю жизнь.
Интересны и плодотворны тогдашние эксперименты с цветом. Особенно в ночных пейзажах зимнего Подмосковья. Сухая изморозь – их постоянная тема. Они отличаются изысканностью гаммы и тонкостью нюансировки цвета. Все, как правило, плоскостно-декоративны. Материальность трактовки в них несколько ослаблена. Молодые деревца, опушенные хрупким инеем, на фоне заснеженного поля. Все достаточно натурально и вместе с тем чуть-чуть гобеленно:
Зеленым шелком вышитые елки
На леденяще сизом серебре.
«Дар гравера-живописца», о котором писали критики [28], особенно проявился в технике монотипии. Увлечение ею было очень сильным, но непродолжительным (1956–1961 гг.). Во многих монотипиях Скворцов словно преодолевает присущую ему эмоциональную сдержанность, становится раскованно-лиричным («Пейзаж с козой», «Лесная протока», «Дождь», «Поляна», «Голубые тени», «В Каменном яру», «Осень. Зеленый остров»).
Нежная яркость радужных, пронизанных мягким светом красок сообщает им праздничное звучание. Художник уверенно передает легкую вибрацию света и воздуха. Цветовые модуляции лучистых, светоносных красок и создают это ровное, мягкое сияние многих скворцовских пейзажей и натюрмортов. Особенно мажорны букеты. В звучном и слаженном аккорде насыщенных радостных тонов проявился большой вкус художника и хорошее понимание декоративных возможностей цвета («Полевые цветы», «Астры», «Флоксы», «Колокольчики»). Праздничная нарядность гаммы достигается вовсе не путем повышенного цветового напряжения. Как правило, Скворцов избегает активно сталкивающихся красочных пятен. Резкий цветовой контраст и нарочитое упрощение форм в «Натюрморте с блюдом» кажутся неожиданными для него. Довольно редкая для его творчества слегка озорная ирония, которая в повседневном обиходе отнюдь не была чужда ему. А в пейзажных монотипиях Скворцов более привержен точности эмоционально-образного воплощения натуры: желтая листва, набегающий октябрьский холодок («Осень. Затон»), чуть брезжит утренний свет и редеет синяя мгла уходящей ночи («Рассвет»); интенсивные голубые рефлексы дают впечатление, будто освещенность пейзажа меняется прямо на глазах («Голубые тени»), рыхлые, словно пропитанные влагой, цветовые пятна неба и земли («Дождь»). Все эти листы по-скворцовски правдивы, хотя, конечно же, они – свидетельство возросшей интенсивности его лиризма.
Удивительно короткий срок – буквально два-три года – понадобился Скворцову, чтобы достичь столь высоких результатов. И вполне справедливым кажется замечание М. Ю. Панова: «Говоря о монотипиях, следовало бы сказать, что Скворцов стоит в ряду с лучшими, очень немногочисленными мастерами этой трудной техники (Барто, Кругликова, Шевченко, Суворов)» [29]. Место в этом почетном ряду обеспечено его талантом и упорнейшим трудом.
Успешно работая в монотипии, Скворцов не забыл и офорт. Именно в этой технике (во всех разновидностях ее) – основные удачи талантливого гравера. Уже в 1950-е годы эти достижения получили высокое признание в профессиональной среде. Многие музеи и частные коллекционеры начинают активно собирать скворцовские пейзажи. И в эту пору большого творческого подъема и начинающегося широкого признания художника настигла внезапная смерть. Он ушел из жизни на пороге своего семидесятилетия, полный творческих замыслов и еще достаточно бодрый для их осуществления. Посмертная выставка его произведений, организованная в 1966 году графическим кабинетом Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, хотя и весьма ограниченная по составу, обнаружила ровный и очень высокий уровень мастерства. Она вызвала живую заинтересованность не только узкого круга специалистов, но и самого широкого зрителя.
Юбилейная выставка 1974 года в Саратове, охватывающая с достаточной полнотой все творческое наследие гравера, стала подлинным «открытием» Скворцова даже для тех, кто на протяжении многих лет внимательно следил за его творческой эволюцией. Масштабов сделанного им не подозревал, пожалуй, никто. Мало кто догадывался прежде и о поразительном разнообразии технических поисков, поистине «гравюрном универсализме» Скворцова.
Выставка помогла осмыслить особенности художнического пути мастера и реальную ценность его искусства. Отчетливее прояснилась безусловная значительность созданного им, стали очевиднее заслуги в развитии советской гравюры конца 1920-х – начала 1960-х годов.
Стилистическое своеобразие произведений Скворцова не сразу бросается в глаза. Выявить и по-настоящему оценить индивидуальность гравюрного почерка здесь тоже не так просто: ведь Скворцов стремился к языку «естественно-незаметному» и не испытывал особой тяги к обнажению приемов. Его искусство не имеет близких аналогий. Он стоит несколько особняком, этот художник, ни на кого не похожий и вместе с тем глубоко традиционный. Традиционный в самом высоком и творческом значении данного слова. Гравюры Скворцова – явление весьма самобытное в советском художестве. Эта самобытность не в приемах гравирования, а в глубочайшей душевной сосредоточенности, в особой тонкости проникновения, в честной безыскусственности, в редкостном постоянстве тематики, в незыблемости творческих принципов.
«Мастерство и сердечность» – так лаконично и метко определил горьковский художник А.М. Каманин наиболее привлекательные стороны творчества Скворцова [30].
Действительно, высокий профессионализм сочетается в его листах с большой непосредственностью и теплотой чувства, с подкупающей задушевностью интонаций.
«А. В. Скворцов изображает природу не как холодный наблюдатель, смотрящий на нее со стороны, а как страстно влюбленный в нее человек, он как бы растворяется в изображаемой им природе и увлекает зрителя за собой. В этом и заключается секрет обаяния его пейзажей. Для того чтобы так изображать природу, надо быть не только талантливым художником, но и очень чистым человеком, с большим и горячим сердцем. И наверно поэтому его произведения не могут оставить равнодушным ни одного зрителя, способного чувствовать красоту окружающего мира [...] Он всегда в памяти тех, кто действительно любит искусство и родную природу» [31].[1] Письмо московского искусствоведа М. Ю. Панова устроителям вечера памяти А. В. Скворцова в октябре 1974 г. в Саратовском государственном художественном музее им. А. Н. Радищева. Собрание Е. И. Водоноса, Саратов.
[2] Письмо А. В. Скворцова М. А. Доброву от 25 мая 1928 г. – ЦГАЛИ, ф. 2432, оп. 1, ед. хр. 232, л. 1.
[3] Даже и в зрелом возрасте этот жадный интерес к жизни других народов сохранился у Скворцова. Он изучил эсперанто. Получал письма, альбомы и книги из Германии. Японии, скандинавских стран.
[4] С.А. Сильванский. Книжные знаки Александра Скворцова. Херсон – Саратов. 1929, с. 13.
[5] Нотариальная копия этого документа хранится в семье художника.
[6] Письмо Б.А. Зенкевича Г.И. Кожевникову от 20 апреля 1948 г. – Архив Саратовского государственного художественного музея, ф. 369, оп. 1, ед. хр. 160, л. 10.
[7] Художественный Саратов, 1922, 19–24 декабря, с. 10.
[8] Выставка произведений Александра Васильевича Скворцова. Каталог. М., 1966, с. 6.
[9] Я. Тугендхольд. Искусство Октябрьской эпохи. Л, 1930, с. 54.
[10] Письмо А. В. Скворцова В. Я. Адарюкову от 5 августа 1928 г. – ЦГАЛИ, ф. 689, оп. 1, ед. хр. 173, л. 6.
[11] Тем же временем, по всей видимости, следует датировать и большой лист «Астрахань» (офорт, акватинта) – строгий, таинственно-загадочный пейзаж, с громадами портовых строений, белеющих в сумраке ночи, с сонными парусниками у притихших причалов.
[12] См.: М. А. [Егорова (Троицкая)]. По выставке живописи. – Известия Саратовского Совета, 1927, 28 января.
Судя по каталогу (Выставка рисунков, картин и скульптуры. Саратов, 1927), Скворцов показал 14 работ в различных техниках, продемонстрировав возросшие навыки цветной линогравюры и цветного офорта.
[13] Ю. Русаков. Дмитрий Исидорович Митрохин. Л.–М., 1966, с. 96.
[14] См.: Выставка новых поступлений художественного отдела Центрального музея ТАССР. [Каталог]. Казань, 1929.
[15] См.: письмо М. З. Холодовской А. В. Скворцову от 16 сентября 1931 г. Хранится в семье художника.
[16] Письмо А. В. Скворцова Л.И. Рабиновичу (без даты). – ЦГАЛИ, ф. 2430, оп. 1, ед. хр. 494, л. 10, 11.
[17] В. Завьялова. А. В. Скворцов. Л., 1962.
[18] Письмо А. В. Скворцова М. А. Доброву от 25 мая 1928 г. – ЦГАЛИ, ф. 2432, оп. 1, ед. хр. 232, л. 1.
[19] Письмо А. В. Скворцова Л.И. Рабиновичу от 8 декабря 1939 г. – ЦГАЛИ, ф. 2430, оп. 1, ед. хр. 494, л. 7.
[20] ЦГАЛИ, ф. 2432, оп. 1, ед. хр. 389.
[21] Письмо А. В. Скворцова М. А. Доброву от 24 января 1937 г. – ЦГАЛИ, ф. 2432. оп. I, ед. хр. 232, л. 7.
[22] Письмо А.В. Скворцова А.С. Яковлеву от 24 мая 1945 г. Копия в архиве семьи художника.
[23] Письмо А.С. Яковлева А.В. Скворцову от 4 июня 1945 г. Хранится в семье художника.
[24] См.: Письмо А.С. Яковлева А.В. Скворцову от 8 сентября 1945 г. Хранится в семье художника.
[25] Е. Мурина. Уроки Фаворского. – Творчество, 1965, № 2, с. 9.
[26] Письмо А. В. Скворцова А. С. Яковлеву от 20 сентября 1946 г. Хранится в семье художника.
[27] К. Безменова. Поэт Волги (Заметки о творчестве А. В. Скворцова). – Волга, 1968, №5, с. 191.
[28] К. Безменова. Указ, соч., с. 189.
[29] Письмо М.Ю. Панова Е.И. Водоносу от мая 1980 г. Собрание автора монографии.
[30] Из речи на вечере памяти А. В. Скворцова в Москве в 1966 г. Стенограмма. МССХ.
[31] Письмо М.Ю. Панова устроителям вечера памяти А.В. Скворцова в октябре 1974 г. в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева.
